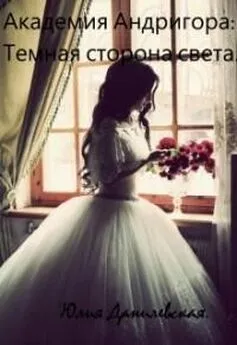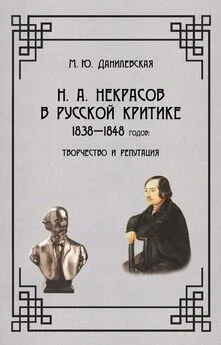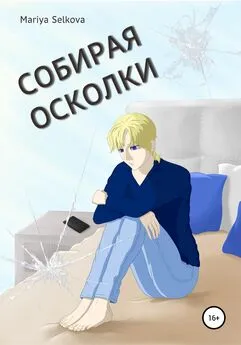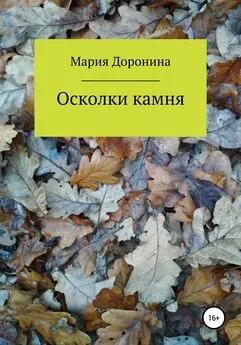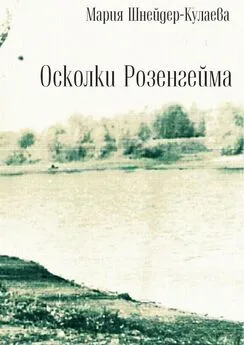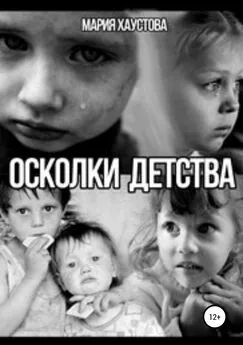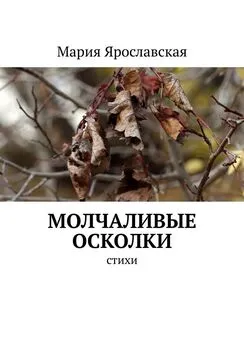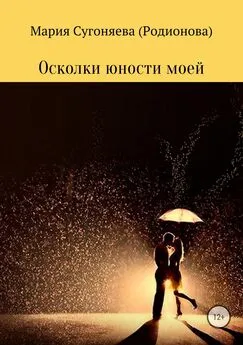Мария Данилевская - Осколки голограммы
- Название:Осколки голограммы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00025-291-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Данилевская - Осколки голограммы краткое содержание
Предметом нескольких статей стал «панаевский» сюжет. В них представлен анализ поэтики любовной лирики Некрасова, адресованной А. Я. Панаевой, и «Воспоминаний» А. Я. Панаевой (Головачевой) в контексте мемуаров эпохи.
Пристальное внимание уделяется специфике мемуарного повествования. Анализируются намерения автора в подаче фактического материала, система умолчаний, смещение смысловых акцентов при записи устных рассказов, полемичность мемуарных текстов. В освещении биографического контекста уделяется внимание такому фактору, как эфемерная, но неизымаемая из истории эпохи сила личного обаяния человеческой личности: Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского, В. Г. Белинского, артистки В. Н. Асенковой и др. Власть личного обаяния подчас оказывается ключом к тому, как формировались убеждения и художественные образы у людей, побывавших «в ее орбите».
Книга предлагается исследователям русской литературы XIX века, преподавателям, студентам, любому заинтересованному читателю.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Осколки голограммы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, в ряде интернет-публикаций выражен читательский интерес к лирике Некрасова (отметим: но не к его поэмам), отмечены художественные достоинства и черты индивидуальной поэтики его творчества.
Более частотны упоминания и замечания о личности Н. А. Некрасова.
Внимание к личностному началу Н.А. Некрасова заметно по нескольким группам интернет-публикаций. Имя Н.А. Некрасова, отдельные особенности его характера и судьбы многократно упоминаются в статьях, посвященных теме охоты и азартных игр – бильярду и карточной игре, причем отмечается удачливость Некрасова-игрока (например: «Страдалец за народ, а по совместительству профессиональный карточный игрок и почти миллионщик, Николай Алексеевич Некрасов» [59]).
Ситуация «любовного треугольника» Панаев – Панаева – Некрасов и последующие любовные союзы поэта достаточно часто упоминаются в публикациях, посвященных истории русского общества середины XIX в., трансформации морали и института семьи, женской эмансипации, а также в популярной психологической и социологической литературе. В качестве примера приведем комментарий к третьей из «Трех элегий» (1873): «Зарисовка психического настроя перед разводом по Н. Некрасову» [60]. Факт, что «развода» в жизни холостого до 1877 г. поэта не было, а элегия написана почти десять лет спустя после расставания, и цикл посвящен воспоминанию, анонимный автор комментария не учитывает.
Некоторые высказывания о Н. А. Некрасове носят интригующий заголовок, например: «Неизвестные факты из биографии поэта Николая Алексеевича Некрасова» [61]. Факты биографии, изложенные в них, явно почерпнуты из Интернета, из публикаций, посвященных Зинаиде Николаевне Некрасовой (Фекле Анисимовне Викторовой), Авдотье Яковлевне Панаевой и Селине Лефрен. В этих статьях содержатся характеристики поэта. В некоторых случаях цитируется мнение А. М. Скабичевского: «Люди с темпераментом Некрасова редко бывают склонны к тихим радостям семейной жизни <���…> Они пользуются большим успехом среди женского пола, бывают счастливыми любовниками или донжуанами, но из них не выходит примерных мужей и отцов. Понятно, что и Некрасов, принадлежа к этому типу <���…> под старость, когда страсти начали угасать в нем <���…> оказался способным к прочной привязанности к женщине, на которой и женился на смертном уже одре» [62]. В большей части публикаций суждения выносятся без ссылок на источники: «Некрасов живет в чужом доме, любит чужую жену, ревнует ту к мужу и закатывает сцены ревности… называет ее Второй Музой. И попутно продолжает “в лучших традициях” закатывать скандалы и изматывать возлюбленной душу претензиями, ревностью. К чести поэта, он отходчив: побуянит – и принимается вымаливать прощение, то стишок посвятит, то на коленях ползает <���…> он вновь терзает любимую, жестоко оскорбляет, на ее глазах и в ее же, заметьте, доме, крутит шашни с другими барышнями» [63]; «В противовес известной пословице, что если не везет в карты, то повезет в любви – в любви Некрасову везло. Среди его возлюбленных наиболее известны отбитая им жена приютившего его Панаева – Авдотья Яковлевна, француженка Селина Лефрен, от которой Некрасов сам рад был избавиться, так как она оказалась слишком расточительной, и, наконец, 19-летняя Фекла Анисимовна Викторова, – женщина, с которой больной уже Некрасов впоследствии обвенчался» [64].
Любое из этих утверждений в основе своей имеет либо факт (гражданский брак с женой приятеля и соредактора, ревность, связь с французской актрисой, женитьба), либо суждение какого-либо современника поэта. Эти факты и суждения освещены в справочной, научной и научно-популярной литературе. Но в процитированных и аналогичных им интернет-публикациях, к которым обращается массовый читатель, эти факты и суждения оторваны от контекста, даны с неточностями, преувеличениями, смещениями смысловых акцентов, в стилистике праздных пересудов – снисходительно-пренебрежительной разговорной речи. В такой подаче биографические сведения воспринимаются читателем как жанровый образец слухов и сплетен: для них характерен «разоблачительный» характер, пограничность с компроматом, бытовой уровень сознания. Таким образом, художественное мышление крупнейшего российского поэта оказывается за рамками формата статьи, долженствующей что-то сообщить о поэте. Этическая позиция автора (зачастую анонимного) и массового читателя в этом случае априорно не включает уважения к личности: где есть место «разоблачению» «виноватого», там нет места объективному, целостному пониманию индивидуальной судьбы человека, его масштаба и общественно-исторической роли. В отдельных суждениях Н. А. Некрасов предстает персонажем, близким к фольклорному: «Николай Алексеевич Некрасов сражался с крепостничеством, однако причем обладал сотками склад. Некрасов был несдержанным не только лишь в обиходу, он сквернословил и в стихах. Он не бог весть как влюбил достаточность, был запойным запивохой. Но также он был геймером» [65].
Еще одна группа текстов, в которой содержатся развернутые суждения о личности и творчестве Н. А. Некрасова, условно может быть объединена тематической близостью к медицине. Степень этой близости различна, так же как степень корректности суждений. Обзор данной группы текстов мог бы показаться внеположным основной теме настоящей статьи – «Образ Некрасова…» Однако цитируемые высказывания массового читателя не свободны от влияния этих текстов. Более того, обращение к этим текстам проясняет преемственность закрепившихся акцентов в образе Н. А. Некрасова.
В № 1 «Вестника истории военной медицины» за 2001 год была опубликована статья «Болезнь и оперативное лечение поэта Н.А. Некрасова» (авторы: А. И. Нечай, А. Д. Тарасов, М. В. Боголюбов, Т. В. Яковенко) [66]. Она представляет собой краткий пересказ событий, восходящий к воспоминаниям Н. А. Белоголового [67]– врача, лечившего Н. А. Некрасова и многих других литераторов, общественного деятеля и мемуариста. Несмотря на обилие медицинских и физиологических подробностей, публикация соответствует историко-культурной значимости последнего периода жизни поэта, чье повседневное поведение, поэтическая, редакционно-издательская и общественная деятельность нашли отклик в широкой аудитории и, в частности, среди медиков [68].
К концу XIX – первой трети XX в. относится одновременно спорный и плодотворный этап в развитии науки. Союз литературы и медицины представлялся органичным, примером чему служат биографии А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова. Л. Я. Гинзбург свидетельствует, что, «прежде чем перейти к непосредственно интересующим ее предметам», литература «считала, что всякий человек должен <���…> получить общую естественно-научную подготовку» и «основательно изучить философию» [69]. В литературоведении формируются биографический и психологический методы. Первый из них развивался, начиная с литературной деятельности Ш. О. Сент-Бёва, выступившего с «Литературно-критическими портретами» в 1836–1839 гг. Этот метод определяется как «способ изучения литературы, при котором контекст жизненного опыта писателя и его личность рассматриваются как основополагающий фактор творчества», а «каждый литературный памятник должен быть оценен прежде всего как документ своей эпохи и как документ, объясняющий психику поэта» [70]. Психологическая школа в литературоведении, продолжившая традиции биографического метода, сложилась к концу XIX в. и в России существовала до 1920-х гг. В ее основе лежало «исследование внутренней, душевной жизни человека, обусловленное идеей о том, что искусство выражает… субъективные впечатления внешнего мира и собственные переживания индивида» [71]. Биографический и психологический методы широко использовались историками литературы, осмыслявшими творчество и биографию Н. А. Некрасова, о чьей сложной, богатой и противоречивой личности сохранилось множество письменных и устных свидетельств тех, кто лично знал поэта и на рубеже XIX–XX вв. еще был жив.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
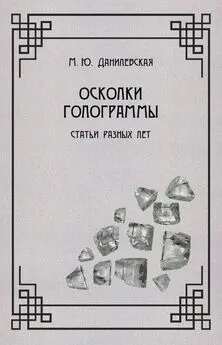

![Мария Акулова - Душа на осколки [СИ]](/books/1072574/mariya-akulova-dusha-na-oskolki-si.webp)