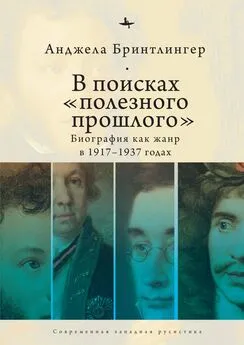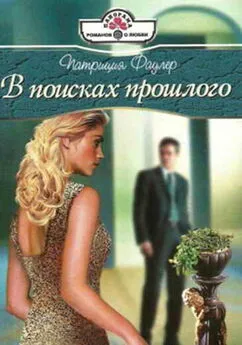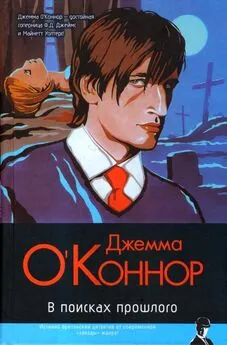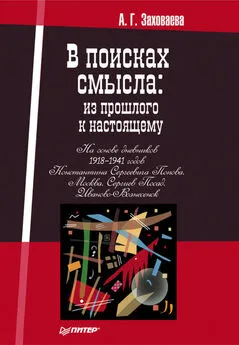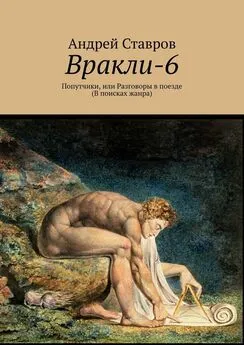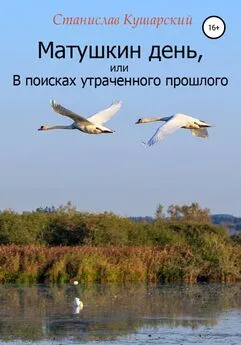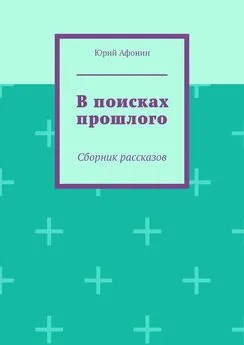Анджела Бринтлингер - В поисках «полезного прошлого». Биография как жанр в 1917–1937 годах
- Название:В поисках «полезного прошлого». Биография как жанр в 1917–1937 годах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Бостон / Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-6044208-5-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджела Бринтлингер - В поисках «полезного прошлого». Биография как жанр в 1917–1937 годах краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
В поисках «полезного прошлого». Биография как жанр в 1917–1937 годах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни одна черта в многогранности Пушкина не уходит из поля зрения советского читателя. Он видит дальше и глубже многих исследователей, многих записных критиков. Он отдает все должное Пушкину, создателю русского литературного языка, родоначальнику новой русской литературы, гению, обогатившему человечество бессмертными произведениями, но за всеми этими определениями советский человек ищет Пушкина – своего современника, ищет в Пушкине черты, которые жаждет видеть в самом себе, в повседневной жизни советского общества. <���…> Советский читатель видит в Пушкине своего согражданина, современника. Он не хочет воспринимать Пушкина как прошлое, как исторически прошедшее явление [цит. по: Левитт 1994: 184–185].
Советская риторика и реклама использовали – самым лживым образом – и тот образ Пушкина, который был известен с XIX века. Превратившиеся в штампы высказывания писателей и критиков вновь предлагались советскому читателю: это и фраза Ап. А. Григорьева «Пушкин – наше всё», и строки Ф. И. Тютчева о Пушкине – «первой любви» России («Тебя, как первую любовь, / России сердце не забудет»), и тезисы Ф. М. Достоевского о «всемирном гении Пушкина». Советский Пушкин был превращен в друга народа и икону для советской молодежи; благодаря тщательному отбору событий жизни и творчества он стал образцовым положительным героем, составной частью советской народной версии «полезного прошлого».
Эмигранты, рассеянные по всему миру, также признавали значимость юбилея 1937 года. Для русского зарубежья пушкинская годовщина и торжества, проходившие по этому случаю в СССР, предоставляли уникальную возможность для ведения культурной войны. Эмигрантское сообщество, используя свои журналы, газеты, культурные организации, выставки, собрания и книги, сделало все возможное, чтобы «отвоевать» Пушкина и доказать, что образ, созданный советской пропагандой, лишь маскирует царящее на родине отсутствие уважения к «подлинному Пушкину».
В номере парижского журнала «Иллюстрированная Россия», посвященном мемориальным дням 1937 года, отмечено, что все советские торжества были политически мотивированы: «Для советского режима культ Пушкина – это прежде всего политический акт» [П. А. 1937: 141]. Для русского зарубежья Пушкин значил нечто большее – так, по крайней мере, утверждали сами эмигранты: его образ был живым и помогал им сохранить веру в Россию и русскую культуру. П. Н. Милюков, например, писал в своей книге «Живой Пушкин», что в конце 1930-х годов Пушкин оказывается даже «более современным», чем при жизни. Пушкин для Милюкова – «понятный», «близкий», «живой» и «вечный» [Милюков 1937:132,7]; он стал представителем всего русского и может утешить оторванных от родины русских как друг и товарищ.
Хотя эмигранты и критиковали советскую риторику и политическую ангажированность воспевания Пушкина, для них самих поэт тоже стал политическим символом: он был воспринят как пророк, явившийся своему народу, и в XX веке оказался на знаменах, под которыми русская диаспора могла объединиться. Д. С. Мережковский даже назвал Пушкина символом единства России и символом свободы. Выступая в качестве объединяющей силы для русской диаспоры, Пушкин неизбежно приведет эмигрантов на родину, чтобы освободить своих братьев и объединиться с ними в новой России [Пушкинские дни в эмиграции 1937: 137].
Противоречивость выступлений эмигрантов не удивительна: они гордились тем, что в СССР выбрали русского классика на роль главного положительного героя, но их раздражало то, как именно Советы приспосабливают Пушкина к своим нуждам. Советское использование культурного наследия при взгляде из-за рубежа казалось почти аморальным:
Насаждая в стране – под давлением внешней опасности – патриотизм и народную гордость, советская власть должна была невольно обратиться к русским классикам как к предмету гордости каждого русского человека и как к сильнейшим возбудителям любви к отечеству. В то же время изучение классиков используется советской властью как политическое орудие. На Пушкина набрасывается мантия революционера и чествуют его, в первую очередь, как поэта политического [П. А. 1937: 140].
Для тех, кто выступал против большевистского режима, Пушкин был неразрывно связан с Россией прошлого. Все чаще, по мере приближения столетней годовщины со дня смерти поэта, указывая на свою тесную связь с ним, эмигранты, как и советские деятели, пытались найти применение этой важнейшей фигуре культурного прошлого и присвоить Пушкина себе [2] О Пушкине как новой советской иконе см. монографию П. Дебрецени «Социальные функции литературы: Александр Пушкин и русская культура», особенно главу 7 [Debreczeny 1997].
.
Биография или нечто иное? Русские писатели создают новое прошлое
Жалуясь на американскую литературу в 1918 году, Брукс размышлял о том, что «прошлое нашего народа не лишено элементов, которые можно было бы сейчас заставить поспособствовать некоторому общему взаимопониманию, если бы толкователи этого прошлого не приукрашивали его так, что оно оказывается бесплодным для живого ума» [Brooks 1918: 337]. В русской литературе 1917–1937 годов поиски «полезного прошлого» часто велись в связи с отдельными историческими личностями и, следовательно, в связи с их биографиями. Однако для этого биография должна была лишиться того, что В. В. Маяковский называл «хрестоматийным глянцем» «классики», той патиной или лаком, которыми история покрывает своих наиболее почитаемых героев. В поисках «полезного прошлого» биографы встречали такие образы-иконы, но проще было использовать судьбы менее известных или менее антологизированных персонажей, из тех еще «живых», кого историки не успели сделать «бесплодными».
Как уже было сказано, именно Пушкин сделался в эти годы самой обсуждаемой и спорной фигурой в истории русской литературы – как в эмигрантской среде, так и в Советском Союзе. Но в этом ряду были и другие писатели, способные принести пользу настоящему, пусть и по-разному. В данной работе центральное место занимают три автора, каждый из которых пытался создать оригинальный образ «полезного прошлого» и для своих читателей-современников в Советской России и за рубежом, и для самих себя. Все они обращались к биографии Пушкина, но получили известность отнюдь не благодаря этим жизнеописаниям. Ю. Н. Тынянов, В. Ф. Ходасевич и М. А. Булгаков – каждый из них, до того как прийти к Пушкину, занимался другими историческими темами, в той или иной степени связанными с биографическим жанром. Поэтому их биографическое творчество в данном исследовании рассматривается дважды: сначала как биографа какого-то литературного деятеля, а затем – как биографа Пушкина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: