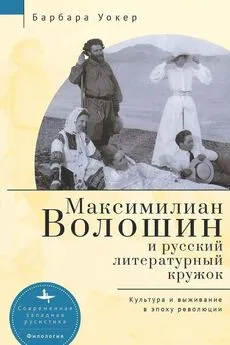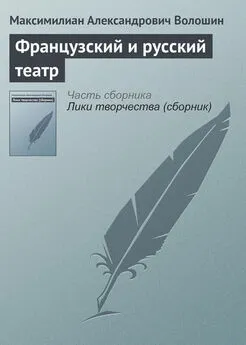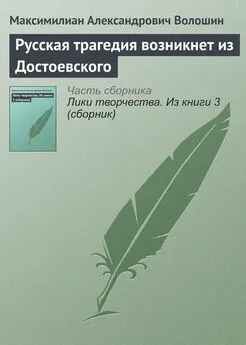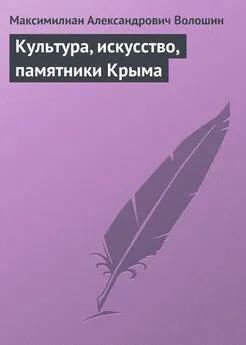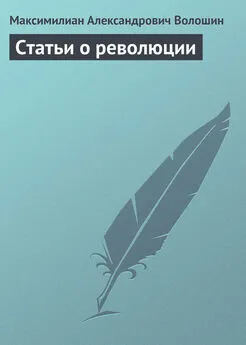Барбара Уокер - Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции
- Название:Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Максимилиан Волошин и русский литературный кружок: Культура и выживание в эпоху революции ⁄ Барбара Уокер; [пер. с англ. И. Буровой].
- ISBN:978-5-907532-17-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Барбара Уокер - Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Признаки взаимовлияния сил антиструктуры и структуры проявлялись даже на заре существования феномена кружка. Например, корыстные связи и протекционизм, в данном социальном контексте бывшие антитезой интимным, идеалистическим отношениям, свойственным коммунитас, отчетливо проявились во многих кружках начала – середины XIX века, поскольку они стали способом восхождения по ступеням социальной лестницы и предоставляли возможность обзавестись ценными интеллектуальными и профессиональными связями в небольшом и территориально разделенном мире интеллигенции [22] См., например, о некоторых кружках, описанных в [Бродский 2001].
. Тем самым традиционная культура общения могла оказывать подрывное воздействие на антиматериалистическую и эгалитарную культуру коммунитас. Однако существовали и другие способы вторжения структуры в коммунитас, необязательно столь враждебные ей. Например, презрительное отношение к торгашеству, присущее дворянской элите, на удивление хорошо сочеталось с антиматериалистическим настроем коммунитас и способствовало его укреплению, хотя и было традиционно связано с иерархией по рождению. Если человек сам по себе богат, как обстояло дело с большинством участников кружков первых десятилетий XIX века, то ему легче поддерживать не материальные, но духовные связи.
Со временем взаимодействие структуры и антиструктуры в литературном кружке усложнялось, и его необходимо воспринимать в контексте более общей истории русской интеллигенции как социальной группы. Во второй половине XIX века, после поражения России в Крымской войне, Великие реформы привели к существенным переменам в российском обществе и иерархии. В плане образования и интеллектуальной жизни наиболее важной из этих реформ стало открытие доступа к высшему образованию для студентов недворянского происхождения, ранее лишенных такой возможности Николаем I. Благодаря этому шагу ряды русской образованной элиты существенно пополнились. Дети служителей Церкви, евреев, крестьян и многих других получили доступ к системе высшего образования наряду с отпрысками высших слоев общества и возможность стать частью образованной элиты [23] Более широко этот вопрос рассматривается в [Gleason 1980]. См. также [Лейкина-Свирская 1971].
. У этих новых людей с их стремлением добиться успеха было много потребностей и желаний. Возможно, они больше всего нуждались в институтах профессиональной и интеллектуальной жизни. Ранее элита была столь малочисленна и находилась под столь пристальным контролем самодержавия, что в середине столетия подобных институтов было относительно мало. Однако теперь, когда число образованных людей стало постоянно увеличиваться, ученым потребовались лаборатории, музыкантам – консерватории, инженерам – профессиональные организации, художникам – музеи, галереи и выставки, а писателям, все больше стремившимся сформировать русский национальный дискурс в условиях роста читательской аудитории, конечно же, требовались журналы, книгоиздательства и прочие коммерческие предприятия.
С точки зрения предложенной Тёрнером модели антиструктуры и структуры это время должно было способствовать постепенному исчезновению кружка как коммунитас, поскольку он уже сыграл свою трансформационную роль, а также реинтеграции представителей образованной элиты в традиционный уклад. И в известном смысле нечто подобное действительно произошло. В поисках профессиональных возможностей многие образованные люди начали обзаводиться личными связями, которые по своей сути были не идеалистическими, но прагматичными, сложившимися не непосредственно, но по расчету, не столько бескорыстными, сколько преследующими эгоистические интересы, – связями, которые во многом опирались на практиковавшуюся русской элитой давнюю традицию знакомств и патронажа. Подобные личные контакты часто приводили к возникновению небольших социальных групп, которые напоминали более ранние кружки-коммунитас, но на деле представляли собой нечто совсем другое: это были важные центры общения специалистов и интеллектуалов, главные узлы, как их называют в нетворкинге [24] В качестве превосходного введения в область нетворкинга см. [Wellman, Berkowitz 1988].
. Такие кружки были крайне важны для идущего полным ходом процесса институционализации. Именно в них как в главных узлах нетворкинга впервые обсуждались институциональные потребности, строились планы и организовывались действия. Круги общения лежали в основе специальных учебных заведений, научных лабораторий, инженерных ассоциаций, изданий и издательств, а также многих других институтов образованного общества [25] Эта мысль, высказанная мной в статье [Walker 2004], основывается на значительном количестве основных и второстепенных источников. К ним, а также к последующим суждениям, касающимся менторства, развития институтов и кружков, относятся [Bailes 1990; Balzer 1996b; Gray 2000; Tchaikovsky 1905; Болховитинов 1953; Оксман 1958–1959].
.
Учитывая его более традиционную, структурную функцию, кружок как узел нетворкинга быстро воспринял ряд более традиционных элементов присущей русской элите культуры связей и протекции, прежде всего элемент лидерства, что может рассматриваться как передний край вторжения структуры в антиструктуру [26] Тёрнер не останавливается достаточно подробно на теоретической проблеме лидерства в коммунитас, хотя на каком-то этапе и рассматривает отдельных лидеров коммунитас, проявивших себя в форме того, что он называет религиями смирения, в частности Будду, Ганди и Л. Н. Толстого, и доказывает, что они происходили из структурных верхов и, следовательно, часто отвергали свой статус, отказываясь от материального благосостояния [Тэрнер 1983: 258–260]. Тёрнер также пишет о важной роли старейшин, лекарей или жрецов в некоторых племенных ритуалах социальной трансформации, относящихся к прото-коммунитас. Он рассматривает подобные ритуалы как структурно связанные с феноменом коммунитас [Тэрнер 1983: гл. 1–3].
. В прошлом у интеллигентских кружков были духовные лидеры – личности, которых превозносили и любили за то, что они вдохновенно воплощали в жизнь невыразимый дух коммунитас: такими личностями были Тургенев и Станкевич, за что после их смерти перед ними преклонялись их собратья по кружку. Однако теперь в развивающемся мире институционализирующих кружков требовалось кое-что еще – талантливые и энергичные люди, способные получать или оказывать организационную и материальную поддержку при создании новых институтов образования и профессиональной деятельности. И поэтому начал формироваться новый тип руководителя кружка, напоминающий скорее традиционную фигуру покровителя, чем духовного вождя коммунитас: им стал более практичный тип наставника этой новой образованной среды.
Интервал:
Закладка: