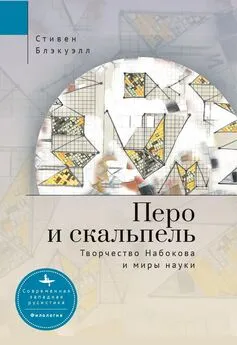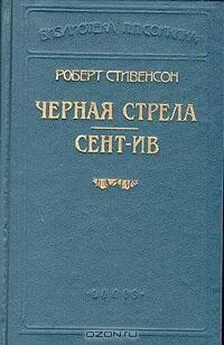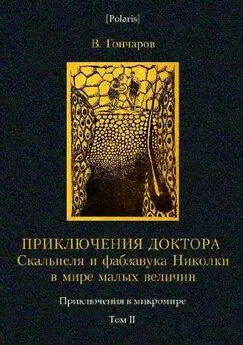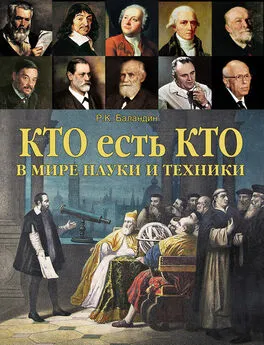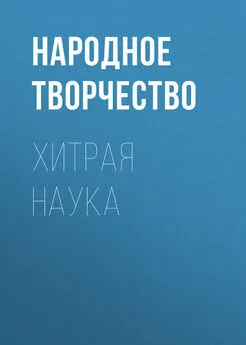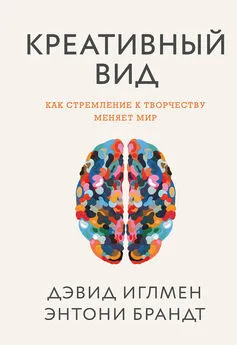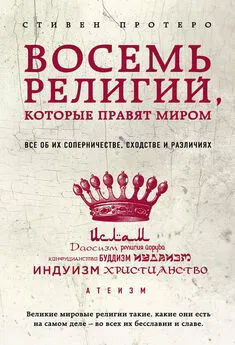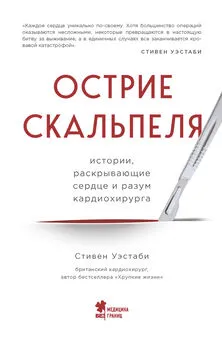Стивен Блэкуэлл - Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки
- Название:Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Бостон / Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-907532-10-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Блэкуэлл - Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Научные труды Набокова в основном касались доказуемых гипотез, поддающихся проверке, хотя здесь следует признать одну неясность: хотя все знают, что нельзя «доказать отрицание», одним из стремлений Набокова было показать существование в природе неутилитарных форм. Как известно, с самого начала в этом поиске Набоков сосредоточился на изучении мимикрии (в том числе подражательного сходства, или маскировки) – с его точки зрения, в мимикрии проявлялась фантастическая изощренность, «которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг врага» [ССАП 5:421]. Хотя это последнее убеждение оказалось неверным, мы все-таки представляем, какие Набоков мог приложить научные старания, чтобы доказать существование неутилитарной мимикрии [19] См. подробное изложение К. Джонсоном различных причин, по которым идеи Набокова об остроте зрения хищников в его работе оказались неверными [Johnson 2001: 48 ff.]. См. также [Zimmer 2002: 50], где проводится параллель между воззрениями Набокова на мимикрию и мнением П. Д Успенского (см. раздел о мимикрии в [Успенский 2020]). По наблюдению Д. Циммера, аргументы Успенского, использовавшего мимикрию для опровержения естественного отбора, не включали любимого утверждения Набокова, что точность мимикрии часто превышает зоркость хищников.
. Появись у него возможность завершить свой воображаемый компендиум всех примеров мимикрии в животном царстве, он бы наверняка основывался на гипотезе, что в таком обилии данных непременно найдется несколько ярких или хотя бы очень убедительных образцов [20] Письмо В. Набоковой Р. Уилсон от 24 июля 1952 года [SL: 134].
. Судя по всему, в его метафизику входила убежденность в существовании иных механизмов, помимо причинно-следственных, и иных причин, помимо утилитарных. Он задавался вопросом, можно ли проверить эту убежденность, и это вовсе не было антинаучным подходом. Однако, зная, что его идеи почти что выходят за грань научного метода, он применял свой подход очень осмотрительно, до такой степени, что бросил проект незавершенным [21] Как указывает К. Джонсон, работы Набокова по систематике игнорировались другими учеными и при жизни не принесли ему достаточного авторитета, чтобы завоевать позиции в «высшей», или теоретической, таксономии [Johnson 2001: 62].
. Набоков знал, где заканчивается наука и начинается метафизика, и, хотя, возможно, желал слегка сдвинуть границу между ними, сделать этого не мог. Таким образом, метафизика Набокова наложила отчетливый отпечаток на него как ученого, и упование на то, что наука могла бы дать некие намеки на метафизические истины, породило у него интерес к исключениям из признанных природных механизмов. Однако он так и не сумел исследовать эти исключения научным методом, и его опубликованные научные работы оставались в рамках традиционного подхода.
НАУКА, ИСКУССТВО И ПРЕДЕЛЫ ПОЗНАНИЯ
Одной из основных стратегий Набокова при опровержении позитивистского материализма была его знаменитая склонность подвергать сомнению или уточнению существование «реальности» – это слово, настаивал он, следует употреблять только в кавычках [СС: 186]. Большая часть этих утверждений появляется в интервью, опубликованных на волне шумихи и славы после «Лолиты», но звучали они и ранее, в статьях и лекциях о конкретных писателях. Ставить под вопрос реальность – странная по меркам XX века позиция для ученого. Однако если приглядеться, становится ясно, что Набоков никогда не опровергал существование реальности (то есть самого бытия); он сомневается в независимом существовании «обыденной реальности» – идеи, которая лежит в основе наивного реализма'. «Обыденная реальность начинает разлагаться, от нее исходит зловоние, как только художник перестает своим творчеством одушевлять субъективно осознанный им материал» [СС: 146]. Набоков так настойчиво обличает наивный реализм и провозглашает важность сознания и его созидательной деятельности, что нетрудно увидеть в этом основополагающий принцип его мышления и творчества. Еще на заре своей славы Набоков выдает целую россыпь подобных пассажей, говоря о «бесконечной последовательности шагов», «ложных днищах» реальности, ее «недостижимости», о невозможности «узнать все» даже о конкретном предмете [СС: 23]. Таким образом Набоков подчеркивает, что природа неимоверно сложна и что многие, даже большинство составляющих этой сложности, недоступны непосредственному восприятию; некоторые полностью сокрыты от чувств и, следовательно, от прямого познания. Природа, даже без отсылки к кантовской «вещи в себе», во многом ускользает от нашего постижения, потому что чувства наши приспособлены лишь к восприятию ограниченного набора внешних факторов и стимулов, важных для человеческого существования, то есть по большей части существования материального.
ПОЗНАНИЕ И ОБМАН В ИСКУССТВЕ И НАУКЕ
Связующее звено между набоковскими концепциями искусства и науки возникает из его взглядов на познание как на свойство человеческого сознания. Познать природу и другие живые существа – дело сложное и трудоемкое. Лишь считаные писатели, помимо Набокова, уделяют такое пристальное внимание широко распространенному бытованию ложных представлений о мире. В русской литературе самые очевидные предшественники Набокова – Н. В. Гоголь (например, в «Ревизоре») и Л. Н. Толстой (особенно в «Войне и мире»). Удивительно другое: у Набокова это внимание включает в себя и чувствительность к ложному знанию в точных науках [22] Позиция Набокова сильно отличается от идей Толстого о лженаучном знании, которые больше фокусировались на несоответствии научного, особенно дарвиновского биологического знания, духовной истине. После разговора с Н. Н. Страховым в 1884 году Толстой записал в дневнике, что аргументы Страхова против естественного отбора бесполезны, потому что дарвинизм представляет собой «бред сумасшедших» [Толстой ПСС 49: 79]. А после чтения статьи Страхова (по всей вероятности, «Дарвин») Толстой делает запись: «Праздно, на все глупости не надоказываешься» [Там же: 80]. Позже Толстой назвал науку «суеверием настоящего» [Там же 90: 37].
. Подобно Гёте, еще одному художнику-ученому, речь о котором впереди, Набоков с некоторым подозрением относился к преобладавшему в научном поиске и познании количественному, ньютоновскому подходу с его атомистической, механической основой и попытками объяснить все природные явления с помощью чисел или формул, – все это он называл «искусственным миром логики» [ЛЗЛ: 469]. Но в популярном дарвинизме и фрейдизме Набоков нашел конкретных противников, чье чересчур широкое применение неэмпирических (неподтвержденных или не до конца подтвержденных) теорий подпитывало миф о возможности довести до совершенства научное познание в самых разных сферах, вплоть до таких, как механизмы и источник жизни или человеческий разум [23] К. Джонсон подтверждает, что до 1930 года именно таким был распространенный взгляд на дарвиновский естественный отбор; он был полностью преодолен «новым синтезом», лишь когда Набоков уже оставил профессиональную энтомологию [Johnson 2001: 10–33]. «Лишь в 1950-е и даже позже неодарвинистский синтез начал принимать некое подобие окончательной формы» [Johnson, Coates 1999: 328].
. Чтобы понять, почему Набоков бросил вызов этим титанам, нам необходимо прочувствовать, как он воспринимал саму попытку хотя бы частичного познания реальности. Существенная часть набоковских воззрений на познание заключалась в его понимании того, как разум способен обманывать сам себя.
Интервал:
Закладка: