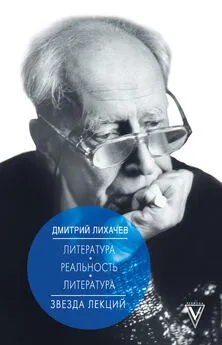Дмитрий Урнов - Литература как жизнь. Том I
- Название:Литература как жизнь. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0177-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Урнов - Литература как жизнь. Том I краткое содержание
«До чего же летуча атмосфера того или иного времени и как трудно удержать в памяти характер эпохи, восстанавливая, а не придумывая пережитое» – таков мотив двухтомных воспоминаний протяжённостью с конца 1930-х до 2020-х годов нашего времени. Автор, биограф писателей и хроникер своего увлечения конным спортом, известен книгой о Даниеле Дефо в серии ЖЗЛ, повестью о Томасе Пейне в серии «Пламенные революционеры» и такими популярными очерковыми книгами, как «По словам лошади» и на «На благо лошадей».
Первый том воспоминаний содержит «послужной список», включающий обучение в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова, сотрудничество в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, участие в деятельности Союза советских писателей, заведование кафедрой литературы в Московском Государственном Институте международных отношений и профессуру в Америке.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литература как жизнь. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нет, казалось, привлекательнее позы (слово я уже знал), высунувшись из окна паровозной будки, устремлять вперед свой взгляд. Так смотрел мой прадед, так написано в любимой книге «Что я видел». Наш семейный фольклор – паровозы, но окружали меня приметы следующей технической эры воздухоплавания, модель дирижабля на книжном шкафу. В одна тысяча девятьсот одиннадцатом году, говорил дед, вошло в оборот слово авиация, а до этого говорили динамическое воздухоплавание, до моторов и пропеллеров называлось свободным. На письменном столе у деда лежали рекламные копии пропеллеров, над столом на полке книжные корешки: «Из пушки на Луну», «Прыжок в ничто», «Первый удар»… Книги, подрастая, я читал, многие были надписаны авторами в подарок деду.
Одну надпись я запомнил: «профессору» с одним с на титуле книги «Ракета в космическое пространство», год издания 1934-й. Профессорского звания дед (из-за доноса) так и не получил, а значение имени на обложке небольшой книжки я осознал с началом эпохи космической. Полетел первый Спутник, и дед, отвечая нам с братом на вопрос, кто же такой «Главный Конструктор», произнес, как отчеканил, открывая по секрету то, что ещё оставалось тайной: «Сергей Павлович Королев».
Интересно бы узнать, но, увы, не узнаешь, была ли в дарственной описка или же сознательное следование Далю, который настаивал на одном с. Признак принадлежности своему времени. Какому?
Дедов письменный стол, шведский, со множеством ящичков и выдвигающейся крышкой, – это был таинственный мир, такой же стол, разве что поменьше, много позднее я увидел через площадь, в квартире Андрея Платонова. У деда на столе и вокруг стола лежали брошюрки с именем ЦИОЛКОВСКИЙ, иногда с клоунской буквой Щолковский. Брошюрки – о летании, то на аэроплане, то на дирижабле или на ракете. Одна брошюрка называлась таинственно «Монизм вселенной», другая была печальной «Горе и гений». «Что это?» – спросил я деда. «Мистика», – был ответ, по тону неодобрительный.
Технически образованный и начитанный человек своего времени, дед был и оставался противником того, что развилось в полурелигию космизма [61] . Начавший переписку с Циолковским в 1911 г., он поддерживал технические мечты калужанина, однако не принимал его потусторонних настроений. Некоторые письма, мать вспоминала, бросал в корзину возле письменного стола. В те годы умнейшие, однако растерявшиеся люди начали и продолжали бредить, скажем, о выведении образцовых советских людей, над чем посмеялся Булгаков, что ему дорого обошлось, бредили люди со связями наверху, для здравомыслящих это было невыносимо.
Ныне натыкаюсь на упреки деду в том, что в трудах Циолковского он де «выкорчевывал» космизм. «Выкорчевывал»! В сороковом году в биографии Циолковского дед первым сформулировал: мистически настроенный философ Федоров мог подсказать молодому пытливому человеку направление мысли космическое. Удостоверил и больше ничего, в сороковом году могли и за такое утверждение проработать, но книгу поддерживал давний друг деда – академик Ферсман, благодаря его отзыву дали за книгу премию. В 50-х годах, когда вместо поддержки дед был окружен ощетинившейся стаей борцов с космополитизмом, не мог объявленный лжеученым и не получивший профессорского звания протаскивать в советскую печать тексты, в которых любой псевдомарксистский старатель откопал бы чуждые нам воззрения и сообщил о находке куда следует.
Смельчаки не нашего времени ставят деду в вину невыход пятого тома сочинений Циолковского с философскими статьями. Но кто же был Ученым секретарем издания и принимал участие в подготовке тома? А почему том не вышел, могут не понимать люди, не жившие в наше время. Вопрос о выходе решался академической иерархией, в которой дед, преклонных лет младший научный сотрудник, занимал последнее место. Даже занимавший на той же лестнице одно из первых мест, член Редколлегии, сподвижник Королева, профессор А. А. Космодемьянский в своей книге советских времен не коснулся космизма, то есть идеализма. Или космизм не идеализм? Не мистика? Спрашиваю безоценочно, сейчас верить не запрещается, а тогда идеализму была дана оценка что называется принципиальная, то есть уничтожающая. Вышел бы пятый том, и попала бы под удар вереница людей, которые допустили появление порочного издания, дающего искаженное представление о наследии великого русского ученого [62] .
«Вы не побоялись трудностей».
Из письма М. П. Алексеева.…Не побоялся я трудностей, каких не смог преодолеть академик. Речь шла о втором томе «Приключений Робинзона Крузо», так называемых «Дальнейших приключениях». Старейшина нашей профессии не опубликовал «Дальнейших приключения» из-за страниц, ради которых и хотел опубликовать вторую часть романа, – о странствиях Робинзона по Сибири, а я, начинающий, опубликовал. Каким же образом? Росчерком пера, взял и вычеркнул непреодолимую трудность. Как же смел я надругаться над классикой? Составленный мною сборник был готов к печати, но, как на зло, в точности там, где Робинзон, двигаясь из Китая в Россию, перебрался через Амур, возникли у нас столкновения с китайцами. Не вычеркнешь – книга не выйдет [63].
Когда книга вышла, я из редакции в издательстве «Правда» шёл по Новослободской улице. Иду и вижу движение толп, словно выходят после сеанса из кинотеатра или на выходной отправляются в парк, одни выходят, другие входят. Что за движение? Да это Бутырки! Ворота настежь, стрелка указывает путь в темницу, как бы приглашая в узилище. Думаю, дай зайду. Пристроился к людскому потоку и пошел. На пороге едва не столкнулся с человеком, который, наоборот, выходил. Шёл он в задумчивости опустивши голову, но что-то побудило его задержаться, словно, он ещё не решил, уйти или вернуться. Остановился и, не глядя перед собой, уткнулся мне в грудь, как боднул. Наклонился я и услышал, что, не поднимая головы, он бормочет. «Что вы говорите?» – спрашиваю. «Я говорю, – едва слышно отвечает выходивший из тюрьмы, – ядрит-твою-ма-ать». Фигура на пороге темницы представилась мне подобием байроновского узника: не броситься, если свободу дали, куда глаза глядят, а подумать, понять случившееся. Отпустили – торопиться некуда.
Приходилось «выкорчевывать» и самому Алексееву, но, конечно, без вандализма. Когда, начиная заниматься своей диссертацией, стал я составлять список литературы по теме «Пушкин и Шекспир», то начал по алфавиту с буквы А – Алексеев Михаил Павлович. Но вместо фолиантов в сотни страниц под этим именем нашел всего лишь заметку «Читал ли Пушкин книгу Кронека о Шекспире?». Исследователь надеялся установить, в чем заключались собственно пушкинские взгляды на Шекспира – не расхожие мнения того времени, и пока ученый этого не установил, он не мог себе позволить взяться за фронтальное освещение темы. Библиограф, фактограф – так судили о нём, словно Алексеев только тем и занимался, что крохоборчески копил сведения. А они, кто так думали, в фактах видели чересчур мало, в чашечке цветка (вопреки совету Блейка) не могли разглядеть неба, поэтому и клубились в их воображении всевозможные облака. Между тем Алексеев помещал всякий факт в разветвленную систему историко-культурных представлений, что позволяло ему увидеть в этом факте скрытое от взора тех, в чьих глазах фактам становилось только хуже, если факты им мешали провести любимую мысль. Гуманитарий не отличался от естествоиспытателя, который смотрит в пробирки, и до тех пор, пока не загустеет, будет продолжать эксперимент.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






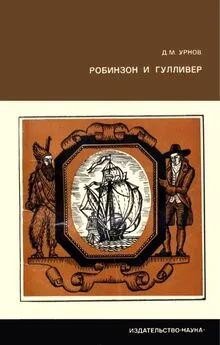

![Дмитрий Серебряков - Новая жизнь. Том 2 [СИ]](/books/1083673/dmitrij-serebryakov-novaya-zhizn-tom-2-si.webp)
![Дмитрий Серебряков (LitNet) - Новая жизнь. Том I [СИ]](/books/1088131/dmitrij-serebryakov-litnet-novaya-zhizn-tom-i-si.webp)