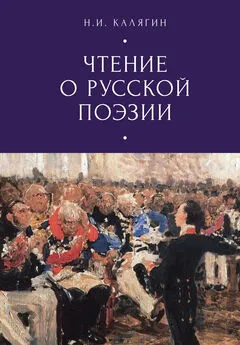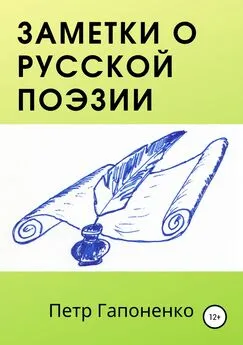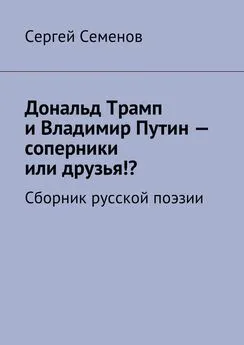Николай Калягин - Чтения о русской поэзии
- Название:Чтения о русской поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-204-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Калягин - Чтения о русской поэзии краткое содержание
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«И в наша лета чего не видехом зла? многи беды и скорби, рати, голод, от поганых насилье. Но никако же пременимся от злых обычай наших; ныне же гнев Божий видящи и заповедаете: хто буде удавленика или утопленика погребл, не погубите людии сих, выгребите. О, безумье злое! О, маловерье! Полни есми зла исполнени, о том не каемся. Потоп бысть при Нои не про удавленаго, ни про утопленика, но за людския неправды…»
Не самый важный отрывок, может быть (из 5-го «Слова»), но мне хотелось, чтобы вы услышали интонацию – тут живая речь, необычайно яркая, – а ведь этим словам святителя, прозвучавшим когда-то с кафедры Успенского собора, в настоящее время более семисот лет.
И что же? Вся древнерусская литература – мощная, разнообразная, утонченная – была до ХVII века полностью нестихотворной.
Но сначала, наверное, необходимо поговорить о поэзии вообще – что это такое? В главном, конечно же, поэзия неопределима. Лучшее определение, которое я могу дать, и самое короткое: поэзия – то, что нельзя пересказать другими словами. В этом смысле «Слово о полку Игореве» – поэзия, и высочайшая. Но в этом смысле и многие страницы Гоголя, Достоевского – поэзия.
Поэзии не бывает без вдохновения, а вдохновение – это то, что вдыхается в человека извне, то, что приходит не спросясь и уходит, когда не ждешь.
Вспомним Грибоедова. План и лучшие сцены комедии явились ему во сне, и вся остальная жизнь Грибоедова, огромный ум, блестящее образование, честолюбие, побуждавшее к творчеству, мало что добавили к тому сну. Или Полонского, в двадцать лет шутя создававшего шедевры, потом же – только слабевшего… Сергея Тимофеевича Аксакова вдохновение посетило в старости, пришло вместе с болезнями, дряхлостью, угрозой слепоты.
Ахматову однажды спросили, не помогает ли ей писать стихи огромный опыт поэтической работы (ей было уже за пятьдесят), и Ахматова ответила довольно удачно: «Голый человек на голой земле. Каждый раз».
Древние греки хорошо понимали, что человеческими усилиями, человеческими заслугами поэзию не создашь, и объясняли вдохновение присутствием музы – богини! – или самого солнечного бога Аполлона, их непосредственным воздействием на поэта.
Но для практики, для безошибочного различения истинного поэта в толпе современных ему «певцов четырнадцатого класса», вот эти разговоры о вдохновении дают чрезвычайно мало. Если я стою над кособоким таким, доморощенным верлибром и говорю, растопырив руки: «Чую близость божества», – кто или что сможет меня переубедить? Ну, я так чувствую… Наука же ничего не знает о вдохновении, и, знакомясь с лучшими современными исследованиями, снова и снова обнаруживаешь досадный пробел: Л. Гинзбург, найдя индукцию у Пушкина, находит ее затем у Брюсова, структуралисты рассматривают рядом тексты Тютчева и Ф о фанова – и фиксируют наличие однородных элементов… В этом ахиллесова пята формального метода – он не может установить иерархию смыслов, иерархию ценностей.
Сцилла и Харибда. С одной стороны, нам угрожает восторженный дилетантизм, с другой – самодовольный педантизм, узость. Чтобы пробиться к поэзии сквозь эти теснины, тоже надо быть в своем роде поэтом.
Но мы отвлеклись. Речь у нас шла о нестихотворности древнерусской литературы. Упомянули мы и о том, что неизвестный автор «Слова о полку Игореве» – истинный поэт, гений… Как совместить эти два утверждения?
Вспомним упрек пушкинского Сальери Моцарту: « Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских… » – а что дальше? Подражать чужому вдохновению – бесплодный путь, путь эпигона; но и сидеть, сложа руки, и ожидать, что твою голову вдруг озарит « священный дар, <���…> бессмертный гений », тоже не очень рационально. В данном случае, Сальери напоминает нам о том, что поэзия – не только бог, но и человек, не только вдохновение, но и труд. То есть у поэзии есть сторона чисто человеческая, и версификация, ремесло стихотворца – это именно та синица, которую человек, всякий человек, способен удержать в руках. И получается, что без научного определения поэзии нам не обойтись, – мы его возьмем у Николая Федоровича Остолопова, чей «Словарь древней и новой поэзии» пользовался в свое время (в начале XIX века) некоторой известностью: «Поэзия – способность выражаться мерной речью, или стихами и созвучиями, или рифмами, в украшенных картинами, описаниями, а также другими вставочными местами сочинениях, коих обыкновенная речь не допускает».
Уже первый признак поэтической речи, указанный Остолоповым, – метр – это то, чему можно научить. И человек, научившийся выдерживать стихотворный размер, подбирать рифмы и проч., сможет писать русские стихи. (Будет ли это поэзия? Конечно, скорее всего, нет. Школа не создает поэтов из ничего; однако поэту, вот этому уроду, который, по слову И. Аксакова, «уже так и родится с неестественной наклонностью к рифмам, хореям и ямбам», полезно бывает в начале жизни пройти хорошую школу.)
Так вот, попытки обнаружить метрическую систему в «Слове о полку Игореве», в «Слове о погибели Русской земли», в других произведениях древнерусской литературы делались (и будут делаться), но наукой эти попытки пока не приняты. И остается принять к сведению, что до ХVII века в России отсутствует национальная поэтическая традиция, отсутствует стихотворная школа.
В чем же дело? Неужели в том, что, как выразился один современный американский профессор во вступлении к своему ученому труду, посвященному истории философии, религии и науки в нашем отечестве, «СССР до 1917 года был отсталой, слаборазвитой страной»?
Допустим на минуту (исключительно из уважения к молодой американской науке), что СССР в XI веке был отсталым государством, – объяснится ли из этого факта отсутствие там книжного стихотворства? Да никоим образом. Дело в том, что поэзия вообще «старше» прозы. При рождении словесного искусства требуется в первую очередь дистанцировать, как-то отделить юную словесность от обыденной речи – отсюда метр, насилие над языком. Проза – более поздняя и «сложная» форма словесности, поскольку внешне она более похожа на обыденную речь. На Руси книжное стихотворство возникает только в ХVII веке, а высокоорганизованная художественная проза является на шесть столетий раньше – является сразу, готовая, как Минерва из головы Юпитера. (Мы можем предполагать, что роль «разделителя» выполнил тут церковнославянский язык, на который эта проза опиралась, – язык хоть и близкий народному, но не сливающийся до конца с обыденной речью.)
Византия, от которой Древняя Русь восприняла свое просвещение, обладала развитой поэзией. Скажем больше: в X–XI, да и в XII веках Византия являлась единственной христианской страной, где существовала серьезная поэзия на народном языке. И византийских поэтов знали у нас и переводили – но переводили прозой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: