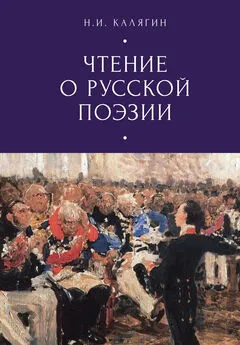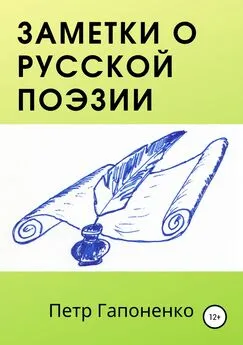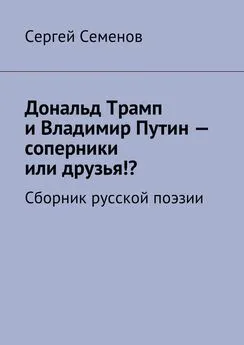Николай Калягин - Чтения о русской поэзии
- Название:Чтения о русской поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-204-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Калягин - Чтения о русской поэзии краткое содержание
Нужно понимать, что автор «Чтений…» не ученый-филолог, а писатель. Субъективный словесник. Произведение, стилизованное отчасти под научный труд, является на самом деле художественным сочинением. Внимательного читателя язык, которым книга написана, привлечет больше, чем те ученые сведения, которые можно из нее извлечь.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Чтения о русской поэзии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заслуга создания русского поэтического языка принадлежит, как известно, Ломоносову. Рассмотрим цепь поступков, которые пришлось ему ради этого совершить:
– Ломоносов тайно уходит из дома и, нарушая прямой запрет отца, едет учиться в Москву – разрыв с семьей;
– при поступлении в Славено-греко-латинскую академию Ломоносов объявляет себя сыном священника, т. е. порывает уже и с природным своим сословием;
– по окончании академии отказывается принять сан – разрыв с духовным сословием;
– уезжает в Германию, прерывая тем самим церковное общение; женится на протестантке.
Для любого нормального русского человека – ХV-го, скажем, века – это ряд катастроф, духовное самоубийство.
Но мы знаем и конец этой истории. Ломоносов возвращается на родину, восстанавливает отношения с семьей (усыновляет племянника), приобретает чины и звания на царской службе. А Церковь? Церковь считала и продолжает считать Ломоносова в числе своих верных чад: стихи его включались в двухлетнюю программу церковно-приходских школ, могила Ломоносова – в Александро-Невской лавре…
Поступки Ломоносова были следствием его личной инициативы, но сама она была лишь откликом на инициативу сверху. А эта последняя принадлежала Царю, помазаннику Божию.
В России ХVIII века процесс секуляризации, омирщения шел сверху, и само омирщение было, таким образом, освящено.
Но мы чуть-чуть забежали вперед.
В ХVII столетии в России вдруг появляется большое количество стихов: тут и рифмованная проза, и раешник, и силлабические вирши.
Настоящий наплыв стихов, наводнение – после многовековой засухи. Об одной из причин этого наплыва мы уже вскользь упомянули: к ХVII веку относятся первые записи фольклора, и для нас просто «проявляется» тот фон, на котором с XI века создавались прославленные памятники нашей письменности.
Вторая причина – политическая и культурная экспансия западного мира. Тридентский собор закончился в 1563 году, на следующий год орден иезуитов был приведен в Польшу, а еще через пять лет – в Литву. Не так уж беспричинна была мания преследования, развившаяся у Ивана Грозного во второй половине жизни. « А век тот был, когда венецианский яд, незримый как чума, прокрадывался всюду: в письмо, в причастие …»
После Люблинской унии (1569 г.) множество русских православных, издавна проживавших в Литве и Польше, оказалось под прессом новообразованного могучего католического государства, наэлектризованного энергиями контрреформации. Мы не будем здесь говорить о политическом давлении, которое оказывалось на православное население Западной Руси; для нас важно то, что уже в первые 10–12 лет после образования Речи Посполитой иезуиты сумели создать целую литературу – полемическую и агитационную – на русском языке. В этих краях, но выражению А. В. Карташева, «встал вопрос о спасении православия средствами своего просвещения – школы, науки, книжности».
Для противостояния сильному и безжалостному врагу необходимы мужество, жертвенность. Этого хватало. Оставалось позаботиться о главном: удостовериться в том, что правда не на стороне врага, ополчившегося против нас, что не с правдою мы враждуем.
Если иезуиты переводили, скажем, раннюю публицистику Георгия Схолария, византийского патриота, который (в надежде на военную помощь Запада против турок) выступал противником Марка Эфесского и защитником Флорентийской унии, – значит, следовало как можно скорее ввести в культурный обиход поздние, зрелые труды св. Георгия (Геннадия) Схолария, первого патриарха Константинополя после его падения, непримиримого противника латинян.
Центр православного просвещения создается в городе Остроге, сюда вызывает князь К. К. Острожский Ивана Федорова, здесь в 1581 году увидела свет знаменитая Острожская библия (первая печатная Библия православного мира) вместе с «Хронологией» Андрея Рымши.
В предисловии к читателю и в виршах на герб князей Острожских Герасим Смотрицкий использует неравносложный стих – в сущности, это народный стих, раешник, – но опирается при этом на церковно-славянский язык:
И убывает луна Ветхаго Завета,
Сияет бо солнце неприступнаго света,
В нем же ходя не поткнется,
Но паче спасется.
Автор «Хронологии», напротив, выдерживает равное число слогов в каждом стихе (принцип изосиллабизма), но при этом пишет на языке народном:
Жидове сухо прошли Чирвоное море,
Кормил их Бог на пущи, не было им горе.
Следуя спортивной логике современной науки, помешавшейся на отыскивании приоритетов (неважно, кто сделал лучше; само это «лучше» тем более неважно – важно знать, кто был первым у дверей патентного бюро), можно назвать белоруса Андрея Рымшу основоположником регулярного стихотворства на Руси. Впрочем, первые стихотворцы Московского государства придерживались скорее линии Герасима Смотрицкого (чей сын Мелетий и составил, кстати сказать, ту «Грамматику», которая стала «вратами учености» для юного Ломоносова), но они нащупывали эту линию самостоятельно – о каком-то заимствовании не может быть и речи. В жизни Московского царства второй половины ХVI в., довольно замкнутой и самодостаточной, хватало своих забот, своих проблем – в том числе и эстетических (выступление Ивана Висковатого). Три-четыре просветительских кружка, возникших в Остроге, Львове, Вильно, ничего не изменили во внутреннем равновесии России. Просто на западной границе православного мира завязались авангардные бои.
Смутное время, шайки поляков, литовцев, шведов, русских изменников, опустошавших страну, перенесли борьбу в самое сердце русского государства.
Физическое присутствие поляков, вынужденное близкое знакомство с чуждой культурой явилось, по всей видимости, последним толчком, вызвавшим к жизни ту поэзию, которая в науке носит обобщающее название: досиллабическая поэзия . Впрочем, доказано фактически (Панченко), что эта поэзия генетически связана с раешным стихом, с устным народным творчеством.
Так кто же они, первые русские стихотворцы?
Князь Иван Хворостинин, потомок старинного рода ярославских князей, сын опричника, кравчий при дворе первого Лжедмитрия, а при Михаиле Романове – воевода в Мценске и Переяславле-Рязанском.
Тимофей Акундинов, последний из 19-ти самозванцев Смутного времени, казненный в Москве в 1653 году.
Иван Наседка – один из составителей и распространителей патриотических грамот 1611 года, богослов, ключарь московского Успенского собора, сосланный при Никоне в северный монастырь и из ссылки не вернувшийся.
Разные люди, как видим. Кто-то сочувствует интервентам, кто-то мужественно противостоит им. Кто-то, пользуясь обстановкой сумятицы и неразберихи, ищет личных выгод. Идет борьба, в жизни и в литературе; все так или иначе вовлечены в эту борьбу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: