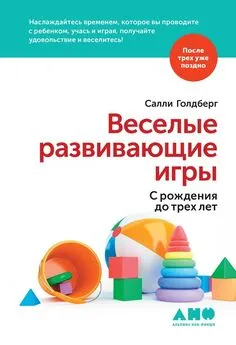Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Название:Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813614
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стюарт Голдберг - Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма краткое содержание
Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
221
Ср.: Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 465.
222
Ницше признавал «невозможность жизненной реализации дионисийской музыки»: «Такая чистая музыка была бы сокрушительна из‐за напоминания о первобытном всеединстве и невыносимого изображения страдания и боли, что и составляет дионисийскую истину о мире» ( Rusinko E. Apollonianism and Christian Art: Nietzsche’s Influence on Acmeism. P. 98).
223
Иванов Вяч . Заветы символизма // Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 2. С. 591. Курсив мой.
224
Сегал Д. Поэзия Михаила Лозинского: символизм и акмеизм. P. 403; Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 36.
225
Михаил Гаспаров называет переклички с Лозинским «слишком отдаленными» ( Гаспаров М. Л. Сонеты Мандельштама 1912 г.: от символизма к акмеизму. С. 155). Представляется, кроме того, что «Путник» – совсем не программное, к тому же написанное в относительно далеком 1908 г. стихотворение – едва ли мог послужить основой для диалога двух поэтов, сблизившихся в 1912 г. Отметим, что все стихи, включенные Лозинским в его первые публикации (в «Гиперборее» № 2 (1912) и № 6 и 9/10 (1913)), были написаны не ранее 1910 г.
226
Можно предположить вслед за Роненом ( Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 193–194), что Мандельштам посвятил свое стихотворение Лозинскому не сразу, а в ответ на стихотворный отклик последнего. (Издание «Камня» 1913 г. посвящения не содержит.)
227
В стихотворении Шилейко «Его любовь переборолась…» (1914), отсылающем к стихотворению «У потока» (1913) Лозинского, читаем: «Но в нем одном могу найти / Все, что старинно, что любимо» ( Шилейко В. К. Пометки на полях. Стихи. СПб.: Лимбах, 1999. С. 10; цит. по: Сегал Д. Поэзия Михаила Лозинского: символизм и акмеизм. P. 358). См. также дарственную надпись на латыни от февраля 1916 г. ( Мец А. Г., Кравцова И. Г. Предисловие // Шилейко В. К. Пометки на полях. Стихи. С. 6).
228
См.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 195–196.
229
О современной рецепции «Бранда» см.: Ерошкина Е. В., Хализев В. Е. Спектакль и пьеса (Драма Г. Ибсена «Бранд» на сцене Художественного театра) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 4. С. 54–58.
230
Несколько сумбурные строки из импровизированного сонета-акростиха Пяста (который непременно должен был поделиться им с Мандельштамом) служат доказательством того, что современники воспринимали Белого как «ходока». Первоначальный вариант, несколько отличный от опубликованного в мемуарах Пяста, воспроизведен в: «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Лозинского). Ч. 2 / Публ. И. В. Платоновой-Лозинской; Сопроводит. текст, подгот. и примеч. А. Г. Меца // Габриэлиада: К 65-летию Г. Г. Суперфина – http://www.ruthenia.ru/document/545494.html. Упоминание Роненом Павла Батюшкова, вероятно, вызвано фигурой моста в идиолекте последнего, а также, возможно, ученым каламбуром: долгое время потенциальным прототипом считался здесь поэт начала XIX в. Константин Батюшков (см.: Камень-1990 . С. 294).
231
Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 449. Разумеется, отношение Мандельштама к Белому не исчерпывается такой критикой даже в тот период (1920‐е гг.). Ср.: СС, II, 327, 343, 423. О Мандельштаме и Белом см., в частности: Cooke O. M. «Abundant Is My Sorrow»: Osip Mandel’stam’s Requiem to Andrei Belyi and Himself // Symbolism and After: Essays on Russian Poetry in Honour of Georgette Donchin. L.: Bristol Classical, 1992. P. 70–84; Kahn A. Andrei Belyi, Dante and «Golubye glaza i goriashchaia lobnaia kost’»: Mandel’shtam’s Later Poetics and the Image of the Raznochinets // Russian Review. 1994. Vol. 53. № 1. P. 22–35; Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 448–450, 480–484; Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. С. 163–165; Он же . «Легкость необыкновенная в мыслях»: Андрей Белый и О. Мандельштам // Вопросы литературы. 2004. № 6. С. 262–267; Павлов Е. Шок памяти: Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама. М.: НЛО, 2005. С. 126–136.
232
Белый А. Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 301–302.
233
Белый А. Арабески. С. 231–232. Курсив мой.
234
Там же. С. 343. Курсив мой.
235
Nietzsche F. Also sprach Zarathustra I–IV. München: Walter de Gruyter; Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. S. 371–372. Перевод автора, подспорьем которому в работе над ним служил английский перевод Вальтера Кауфмана. О Ницше и Мандельштаме см.: Cavanagh C. Mandelstam, Nietzsche, and the Conscious Creation of History // Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 338–366; Rusinko E. Apollonianism and Christian Art: Nietzsche’s Influence on Acmeism // Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary. P. 84–106. Ронен связывает ницшеанство раннего Мандельштама с «Арабесками» Белого (см.: Ronen O. A Functional Technique of Myth Transformation in Twentieth-Century Russian Lyrical Poetry. P. 118, 120).
236
Стратановский видит в «Пешеходе» полемику с Ибсеном, равно как и с Белым (повод для возражения которому он усматривает в желании Белого «разрушить границу между искусством и жизнью»: Стратановский С. Творчество и болезнь: О раннем Мандельштаме // Звезда. 2004. № 2. С. 216). Однако неприятие пути ибсеновских героев на личном уровне сочетается у Мандельштама с принятием ибсеновской постановки вопросов, с которыми те сталкиваются. Внимательный читатель Ибсена, не ослепленный свойственным эпохе страстным увлечением моральными максималистами типа Бранда, – такой как Мандельштам или, скажем, Анненский («Бранд-Ибсен», 1907) – не мог не заметить, что в «Бранде» праведность героя и вообще его взгляды на жизнь ставятся под вопрос. Белый считал, что Бранд гибнет из‐за минутного сомнения ( Белый А. Арабески. С. 34–35), т. е. что он был недостаточно силен! Ясный смысл финала пьесы, однако, заключается в том, что Бранд превратно понимал природу Бога, который, правда, не является Богом комфортной буржуазной морали, но является «Deus Caritatis» – Богом любящим, милосердным. В смерти Бранда и смерти Рубека (о котором см. также: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 195) можно также увидеть неизбежную кару за стремление к высотам духовного восхождения, за посягательство на запретную территорию. В этом свете мы можем понять Мандельштама так, что он верит в удел героев Ибсена, гибнущих в попытке восхождения на духовные высоты, а не в самонадеянные заявления лирического героя Белого, наблюдающего с горной вершины, как лавина катится в бездну. Личный выбор Мандельштама между тем состоял в том, чтобы инвертировать (а не просто отвергнуть) траекторию развития ибсеновских героев. Как сформулировал Белый (в пассаже, который приводит Стратановский): «Сидел Рубек за ресторанным столиком, да и шагнул в новое небо, на новую землю. Правда, не перешагнул, разбился» ( Белый А. Арабески. С. 33). Переходя от «Пешехода» к четверостишиям, а затем и трехстишиям стихотворения «Казино», расположенного на противоположной странице, Мандельштам переходит и от непосредственного ощущения подлинной угрозы, исходящей от реальной бездны, к созерцанию бездны абстрактной, метафорической и оказывается, наконец, вновь за ресторанным столиком – но не «с окаменелым лицом», как описывает Белый Рубека (там же), а очарованный простыми радостями жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
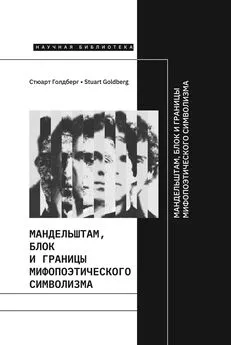
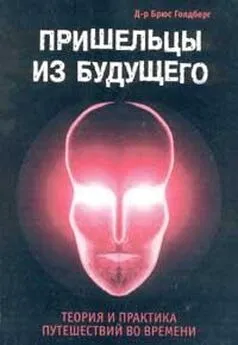

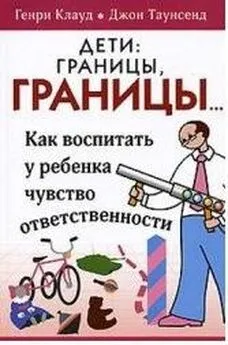
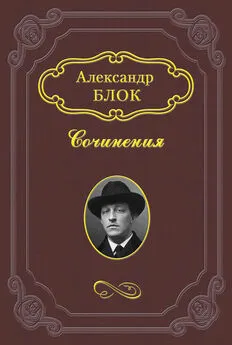

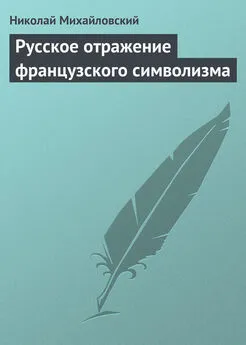

![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/1065923/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id.webp)