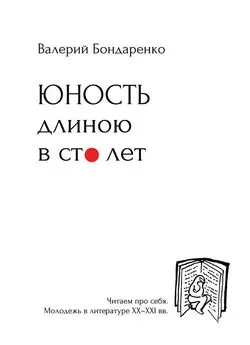Валерий Бондаренко - Юность длиною в сто лет. Читаем про себя. Молодежь в литературе XVIII – середины XIX века. 52 произведения про нас (с рисунками автора)
- Название:Юность длиною в сто лет. Читаем про себя. Молодежь в литературе XVIII – середины XIX века. 52 произведения про нас (с рисунками автора)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-9909991-7-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Бондаренко - Юность длиною в сто лет. Читаем про себя. Молодежь в литературе XVIII – середины XIX века. 52 произведения про нас (с рисунками автора) краткое содержание
С рисунками автора.
Юность длиною в сто лет. Читаем про себя. Молодежь в литературе XVIII – середины XIX века. 52 произведения про нас (с рисунками автора) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Собственно, этот путь русских авторов из учеников в учителя мы и проследим с вами в этом разделе.
Итак…
Мы: 1770–1850-е годы

– Это в чем ты? Матрос ты, что ли?! – гневно накинулась одна старая барыня на князя П. А. Вяземского. Дело в том, что на бал молодой щеголь явился в новомодных длинных панталонах, а не в кюлотах [2] Кюлоты – штанишки до колен, принятые в аристократическом обществе 18 века. Санкюлотами называли революционную чернь во время Великой французской революции: ходили в длинных штанах.
, как было принято. Это вечная история о том, что старики не принимают молодежной моды. На князя напустилось старое, патриархальное представление о том, что каждый должен быть одет сообразно своему социальному статусу, и негоже барину таскаться в простонародных «матросских» штанах. Да что там штаны! Даже очки в начале 19 века считались признаком предосудительного вольнодумства. Один вельможа нацепил их на лошадей, запряженных в его карету – в насмешку над вольтерьянцами. Получалось: человек должен соответствовать приличиям, принятой феодальной норме «кровь из носу», даже вопреки потребностям организма…
А на дворе был уже 19 век – век индивидуализма, и первые свои шаги он сделал в романтическом плаще. Рядом с новым героем так гармонично выглядят люди прежнего времени, даже и в столкновениях с самыми грозными обстоятельствами (у Пушкина в «Капитанской дочке»). Все общественные проблемы вполне разрешимы – такой вывод можно сделать из самого живого текста русского 18 века – комедии Фонвизина «Недоросль» (1782 г.). Люди же нового века и нового мироощущения выламываются из патриархального мира с шумом, с треском, с надрывом. Рвет с родным когда-то ему домом Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), чужаком выглядит в светской гостиной Онегин после трехлетнего отсутствия («Евгений Онегин»). Разрывает со своим сословием Дубровский («Дубровский»). Чужд миру в любом его изводе – светском, казенном, «диком» или маргинальном – Печорин («Герой нашего времени»).
Благо было тому, кто не успел еще заглянуть в бездны, открывшиеся новому герою, кто навек остался в розовых грезах (с чем сейчас обычно и ассоциируется у нас «романтизм» на бытовом уровне). Таковы персонажи ранней повести Достоевского «Белые ночи». Но уже Пушкин отмечал странное и опасное сочетание в герое времени, в «романтике», двух вроде бы взаимоисключающих черт: пылкого воображения и жесткого прагматизма, жажды успеха и стяжательства любой ценой. Между внешне холодным военным инженером Германном («Пиковая дама») и богемно разболтанным художником Чартковым («Портрет» Гоголя) больше общего в устремлениях и судьбе, чем в частностях их характеров. Оба охвачены маниакальной жаждой успеха.
Но ведь даже главный «маньяк успеха» в 19 столетии Наполеон потерпел, в конце концов, поражение! В «Невском проспекте» у Гоголя повседневная жизнь выглядит сплошной провокацией, которой не стоит доверяться ни хрупкому художнику, ни бравому вояке…
Конечно, российская «специфика» отличает и нашу словесность. В первой половине 19 века страна отчасти искусственно задержалась в патриархальном укладе, щеголяла, так сказать, в прежних кюлотах и не желала признать, что уже плохо видит без «вольнодумных» очков. Эта общая отсталость и склонность непривычное «столичное» принять за реально значительное, «фитюльку за человека» – тема комедии «Ревизор». Да, время неумолимо идет вперед! Между «Ревизором» и «Горем от ума» пятнадцать лет разницы, но у Грибоедова косное общество, грозно насупившись, изгоняет из своих рядов умника, а у Гоголя уже заезжий пустомеля вокруг пальца обводит многоопытных уездных «традиционалистов».
Прежний мир ветшает на глазах, как мартовский сугроб. Даже в трилогии Л. Толстого «Детство. Отрочество. Юность», где мир персонажей ограничен детской, классной, бальной залой и университетской аудиторией, чувствуются (особенно в третьей части) веяния какой-то другой жизни, не отработанной еще дворянской традицией. Еще полнее и интеллектуально насыщенней прослеживает этот процесс Герцен в «Былом и думах». И именно индивидуализм в своем развитии позволит героям этих произведений быть такими психологически сложными, современными и убедительными, – тот самый индивидуализм, с которым всю жизнь будет бороться в себе Толстой и в обществе – Герцен…
К 1840-м годам прежний герой-романтик уходит в прошлое. Романтические иллюзии жестоко осмеиваются, жизненный опыт делает героя не злодеем или изгоем, а простым успешным обывателем – и история эта, убеждает нас автор, самая обыденная, обыкновенная («Обыкновенная история» Гончарова). В романе «Обломов» он создаст образ не просто типичный для своей эпохи и среды, но архетипичный, то есть базовый, основополагающий для национального характера.
Новое поколение писателей, с одной стороны, типизирует жизнь, с другой – тонко, точно и бесстрашно ее психологизирует. Один из шедевров зрелого Тургенева – повесть «Первая любовь» – написан о юности писателя, то есть где-то о 1830-х гг. Их мы сейчас воспринимаем костюмно, «археологически»: фраки, кринолины, вальсы, веера. Но вот смотрите: люди того времени имели те же психологические проблемы и «комплексы», что и многие наши современники. Впору б психоанализ к ним подключить…
Завершает эту главу повесть Л. Толстого «Казаки». В его главном персонаже и обстоятельствах, в которых тот пребывает, есть нечто общее с «Героем нашего времени». Но насколько другой толстовский Оленин рядом с лермонтовским Печориным, вполне самодостаточным индивидуалистом! Оленину мало себя, он стоит на пороге другого мира, жадно вглядывается в жизнь других людей, чуждых ему сословно, но гораздо более привлекательных, чем равные ему «господа»…
Или мы опять на пороге новых иллюзий?..
«Вот злонравия несчастные плоды»
Д. И. Фонвизин «Недоросль»
Есть легенда, что после премьеры «Недоросля» князь Г. А. Потемкин сказал автору: «Умри, Денис! (Лучше не напишешь)». Впрочем, возможно он изрек это после премьеры комедии «Бригадир». А может, это слова Г. Р. Державина. Бесспорно одно: без вмешательства Потемкина (однокашника Фонвизина и человека широкого) «Недоросль» вряд ли пробился б на сцену. Но таки пробился – и пережил настоящий триумф: зрители вскакивали с мест, стучали креслами об пол, швыряли туго набитые кошельки на сцену. Причем восторг вызывали не сочные реплики «злодеев», а скучные нам теперь нравоучения Стародума и Правдина. В них звучали обличения нравов двора, нам теперь мало внятные, но тогда бившие в цель пребольно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: