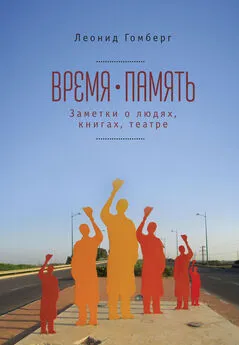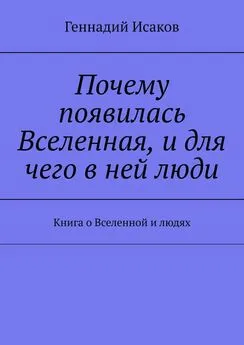Борис Дубин - О людях и книгах
- Название:О людях и книгах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-321-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Дубин - О людях и книгах краткое содержание
О людях и книгах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идея империи – вобрать национальное единство, но и стереть его при этом. Единая идеология от края до края, по римскому образцу. С единым чужим языком, с единой системой делопроизводства, армией и так далее. Любое национальное движение было в принципе антиимперское, антигосударственное, в том числе попытки отстоять статус узких локальных гнезд. Отсюда, скажем, у замечательного и тоже в галицийских краях выросшего поляка Станислава Винценца, бежавшего потом в Венгрию, а позднее – во Францию, набирала силу идея Европы как единства самых разнообразных мелких частностей, принципиально нестираемых в этом едином пространстве («малых родин»). При всех интеграционных движениях к империи или к единой Европе всегда существовали и прямо противоположные: отстоять престиж именно этого места, этого языка, этого диалекта.
И вместе с тем было гордое ощущение принадлежности к чему-то самому большому, самому блестящему – но связывалось оно не столько с империей, сколько с культурой. Это была (напомню Гофмансталя) идея культурного универсализма и сплавления многоязычий. Идея империи была военно-бюрократическая, а ей противостояла идея культуры и отчасти, как писала Ханна Аренд, идея общества как свободной игры сообществ – объединений форм, интересов, сил.
Лаборатория новых культурных форм
Не случайно Вена объединила буквально все проявления гуманитарного сознания и гуманитарного творчества и в каждом дала имена первого ряда, и не одно, не два, не три. Психоанализ, гештальт-психология, фрейдомарксизм, лингвистическая философия – практически все вышли отсюда. Но и в остальном берите что хотите: живопись, музыка, литература, философия…
И начиналось все это в последней четверти XIX-го, шло всю первую треть века XX-го и кончилось с аншлюсом. И происходило во-о-от на таком пятачке. Но как все было организовано! Главным достижением Вены было не возведение границ и барьеров между элитами, а, напротив, постоянное их перемешивание. Для этого надо было выработать особые формы. Их сложился целый набор.
Самые главные для рубежа веков три: венский салон, венские кафе, венский бульвар. Салон как организующее начало соединяет в себе несколько важных черт: обязательно круг идей, обязательно главная фигура одного-двух лидеров, причем это не всегда хозяин или хозяйка салона, и круг людей, которые в принципе составляют, как это потом назвали в романе Пруста, «ядрышко». Могут быть приглашенные. Этот круг текуч. Но всегда: круг идей, круг людей и верхушка – один человек, много – двойка-тройка, определяющих, задающих внутреннюю структуру салона.
Ну, салон и бульвар, гулянье – более традиционные установления, их и во Франции найдешь, и в Германии.
А вот венские кафе – это, конечно, особое венское достижение. Наконец, музыкальное собрание, театр, прогулки по Ring Strasse, по бульварному кольцу. И все это включено, вплетено, вставлено в повседневную жизнь, в то, как ведут себя вечер за вечером, в субботу, в воскресенье, как встречаются, как разговаривают, что-то задумывают, обсуждают, осуществляют.
Еще одна важная форма организации уже собственно интеллектуальной, творческой элиты – литературный или политический журнал (групповое самосознание у венцев было ярко выражено, но и импульс к межгрупповой коммуникации очень силен: на рубеже веков в столице выходило более пятисот газет и журналов, одних русскоязычных было пять-шесть!). И тут есть совершенно уникальные венские образцы вроде журнала «Факел», который около тридцати лет издавал один человек. Это был журнал его одного, от начала до конца, от передовой статьи до музыкальных рецензий. И журнал, надо сказать, номер один для всей немецкоязычной культуры того времени: и германской, и швейцарской, и австрийской. Потому что делавший его Карл Краус был с начала века до 1930-х годов фигурой номер один, вольным или невольным, прямым или косвенным прародителем множества культурных инициатив XX века. Он повлиял и на Вальтера Беньямина, и на будущую Франкфуртскую школу, определил их отношение к культуре, к обществу, их понимание человека.
Сегодня лишь по текстам, читая журнал, не обо всем можно догадаться, уже не восстановить тончайшую материю повседневных связей, встреч, договоров, откликов и влияний через третьих лиц… Краус был недюжинным организатором – это замечательная роль, вообще говоря, очень редкая в культуре, и счастье, когда такие люди появляются. Они могут даже и не сказаться в каких-то своих отдельных текстах. Таким был Аполлинер для Франции первой четверти века, Бретон – для последующего тридцатилетия. И таким для немецкоязычного мира был Краус. Кто бы ни вспоминал об этом времени: и Цвейг, и Брох, и Канетти, и в Австрии, и в Германии – все упираются в Крауса.
«Факел» был журналом современной культурной жизни. Он ее не просто отражал, он ее создавал. Судя по всему, Краус был человек достаточно жесткий, волевой, лидерского, может быть, даже авторитаристского типа, во многом нетерпимый – об этом Канетти тоже пишет; но его устные выступления, его передовицы в «Факеле», его обзоры культурных событий, его рецензии на все, что угодно: живописную выставку, музыкальный концерт, новую книгу – все, что так или иначе в тогдашнем европейском мире происходило, на любом языке: итальянском, испанском, скандинавских, – все это попадало в центр внимания. Его устные выступления заводили необыкновенно. Появление его в салоне меняло всю атмосферу вечера. За любым его словом в журнале по любому конкретному поводу следили с ужасом не только прямые заинтересованные лица, которых он мог просто растереть или превознести, но и все окружающие. Его карикатуры были бесчисленны и узнаваемы, как у нас сейчас… ну, не знаю… разве что ельцинские…
Это был публичный человек. Вена в тот период в искусстве стала воплощением не просто модерна как стиля, а «модерности» как духа современности в культуре. В такой культуре не может не появиться тип публичного человека. И Краус был одним из наиболее совершенных воплощений такого человека, который задает темп культуре, который производит культурные события – не обязательно собственными текстами, но собственными оценками, своим взглядом, своим присутствием.
Он был одновременно человеком глубоко частным, индивидуальным (поразительно, но он не выражал дух никакой партии, никогда не ассоциировался ни с одним политическим движением) и вместе с тем человеком полностью публичным. Даже частные письма, слова, сказанные кому-то один на один, – все подчинялось задаче построения этой публичности, особой акустики публичного пространства, где нельзя, как у нас Гроссмана, беззвучно придушить в подворотне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/1102321/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik.webp)