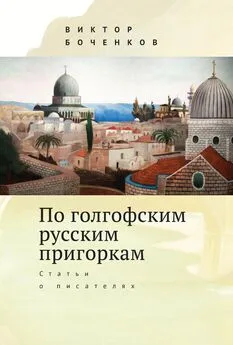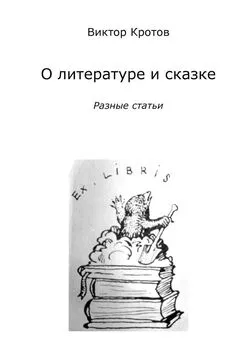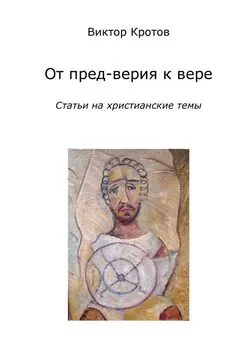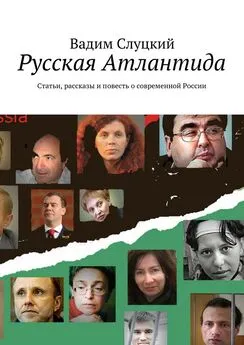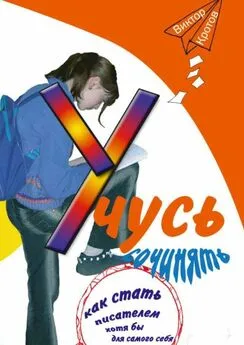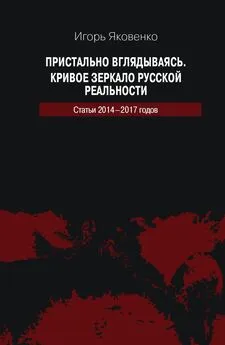Виктор Боченков - По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
- Название:По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-016-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Боченков - По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях краткое содержание
По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А капустка-то у нас
Уродилась хороша,
И туга, и крепка, и белым-белёшенька.
Ой лю́ли, ой люли́,
И белым-белёшенька.
Кочерыжки – что твой мёд,
Ешьте, парни, кочерыжки —
Помните капустки.
Ой лю́ли, ой люли́,
Помните капустки.
Отчего же пáрней нет,
Ай зачем нет холостых
У нас на капустках?
Ой лю́ли, ой люли́,
У нас на капустках.
И эта песня не последняя. Дальше ещё будут. В каком ещё русском романе поют больше?
Об отношении Мельникова к молитве, а если шире – вообще к вере, свидетельств не так уж много, и нельзя исключить, что он не терзался теми же сомнениями и мыслями, что изложены Толстым в его «Исповеди». Сын писателя Андрей привёл в воспоминаниях один эпизод, как он приехал сообщить о смерти отца его однокашнику по Казанскому университету, известному востоковеду Василию Павловичу Васильеву. Тот жил в Петербурге. «Васильев, выслушав меня, занёс было руку перекреститься, но только отмахнулся, сказав: “Ведь мы с покойником чужды были религиозных предрассудков”. Васильев в действительности был “чужд предрассудков” и остался, как говорят, верным себе до последней минуты жизни, но отец, вообще не будучи, впрочем, слишком религиозным и даже многими считавшийся за атеиста (не совсем справедливо), под конец жизни, незадолго до полной потери разумного сознания, отчасти вдавался даже в противоположную крайность» 32 32 Мельников А.П . Из воспоминаний о П.И. Мельникове // Сборник в память П.И. Мельникова (Андрея Печерского). Действия нижегородской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1910. Т. IX. Ч. 1. С. 65–66.
.
В целом, как можно отсюда заключить, особенно церковным человеком Мельников не был, скорее теплохладным. При этом старообрядческие сочинения, в том числе богословские, он великолепно знал, прекрасно разбирался в иконописи 33 33 Об иконах, упоминаемых в дилогии, см.: Лепахин В . Икона в русской художественной литературе. М., 2002. С. 217–242, 243–271.
. Он трепетно относился ко всякой мелочи, описывая старообрядцев, особенно если это касалось устава. Тот же Андрей Мельников опубликовал письмо отца, адресованное бывшему старообрядцу Василию Борисову, с вопросами: поётся ли ирмос «Житейское море воздвизается» на поминовениях или его только читают и что поют при пострижении? 34 34 Мельников А.П . Указ. соч. С. 61.
Положительные герои дилогии себя без молитвы не мыслят (мы помним, что отличительная черта русского хозяина – глубокая религиозность).
«Ребёнок, научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет её опорой – русской опорой, русской церкви. Он найдёт пути – в глубину русской истории и на простор русского возрождения» (Ильин). Каждый народ обращается к Богу по-своему. «Живое многогласие и многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть ребёнку с первых лет жизни».
В том и дело, в том и беда, что история послераскольной синодальной церкви мало-помалу утрачивала русскую самобытность. Мне в этой связи часто приходят на память слова не многим пока известного публициста Василия Гавриловича Сенатова из его работы «Философия истории старообрядчества», которую он опубликовал в 1907 году на страницах старообрядческой газеты «Слово правды», а затем, в следующем году, при поддержке Союза старообрядческих начётчиков выпустил отдельной брошюрой. Эти слова – завершающие в ней. Будет длинная цитата, но пересказывать не хочется. «Никоновские реформы имели то значение, что ими русский народ отстранялся от непосредственного участия в делах церковных, и накопленные в течение долгих веков религиозные знания откладывались куда-то в сторону. Наряду с этим главенствующее значение получала бесконтрольная воля и власть иерархии, и взамен народного веропонимания выдвигалось на первое место понимание иное, принесённое из чужих стран. Эти народные знания не могли быть заглушены никакими новыми течениями, никакою властью они не могли быть исторгнуты из духа народного. Старообрядчество и есть история того, как русский народ проявляет свои веками скопленные религиозные знания, как эти знания, иногда совершенно неожиданно, выбиваются на Божий простор и распускаются в пышные и дивные творения. История господствующей церкви, в сущности, представляется историей того, как заносились на русскую землю и прививались к ней инородные религиозные веяния: сначала новогреческие, затем латино-католические и, наконец, протестантские. В сообразность этому история старообрядчества есть история развития собственно русской религиозной мысли, зарожденной в глубине веков, задавленной было при Никоне, но никогда не утратившей своих жизненных сил, растущей стихийно» 35 35 Сенатов В.Г . Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 85.
.
Эта самая русская религиозная мысль с её ценностями, сокровищами, исканиями и блужданиями, история этой мысли, корнями уходящей в эпоху нашей национальной трагедии – церковного раскола, тоже исследуется в романах, и хотя писатель не ставит здесь окончательной точки, его симпатии на той стороне, которая держится всеми силами за традицию, за обычай, за прародительский уклад. Не потому плачет столетний старик в «Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии…», что бороды ему жалко и кафтан обкромсали, а потому, что вводится «немецкий» закон и порядок, чужеземный уклад, чужое мироощущение. И, завернув отрезанную бороду в отрезанные полы кафтана, уходят мужики по домам под вой жён, одинаково с ними осознающих, что пришла беда.
А пришла беда – отворяй ворота.
Я думаю о том, что национальное начало и вера, религия, очень тесно связаны. Смерть народа – это смерть его религии.
Говорят, что старообрядцы держались за «единый аз». За мелочи. Хорошо, пусть так. Только почему же тогда так упорно нужно было внедрять их, лишать из-за них прав, ссылать и казнить? Почему нельзя было оставить эти «мелочи» и вернуться к прежней «церковной старожитности» (выражение из «Книги о вере»)? Почему невозможно это даже сейчас? Значит, не мелочи это были. Не в мелочах дело.
Старообрядческий епископ Михаил (Семенов) писал очень точно:
«Представьте себе, что святую икону, пред которой молилась ваша мать, хотят выбросить в грязь, чтобы поставить на место её новую, лучшего письма…
Вы не захотите такого кощунства. Вы скажете: “Моя старая икона дорога мне: около неё пролито так много слёз, вознесено к Творцу всяческих так много вдохновенных и тёплых молитв! Она мне дороже всякой другой!..”
Мало того, вы, пожалуй, враждебно отнесётесь к новой иконе. Почему? Очень просто. Её принесли кощунственные, злые руки, которые хотят бросить святыню в грязь, и прикосновением своим они запачкали святое…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: