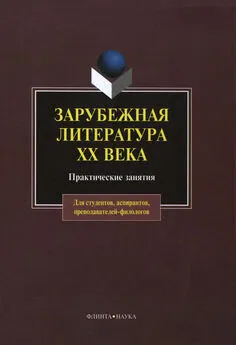Коллектив авторов - Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия научных текстов
- Название:Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия научных текстов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-288-05770-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия научных текстов краткое содержание
Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия научных текстов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А Ловласу эта гордая сдержанность Клариссы кажется величайшим оскорблением. Он не раз повторяет в письмах Бельфорду, что взбешен ее недоверчивостью, ее оглядкой на мнение отрекшихся от нее родных, ее церемонной холодностью. Он ревнует ее и к мрачному Гарлоу-плейс, и к угрюмому тирану-отцу. «Что она, младенец? неужели она только и может любить, что отца и мать?» – восклицает он в письме Бельфорду. Он утверждает, что если бы Кларисса доверилась ему безраздельно, открыла бы ему свое сердце и положилась на его ответную любовь, то и он был бы с ней столь же великодушен и не помыслил бы подвергать ее никаким испытаниям. К тому же его мучит мысль, что, подчинившись добродетели Клариссы, вместо того, чтобы сломить ее волю, и женившись на ней, он станет не более как «обыкновенным человеком».
Так мучают друг друга эти два сильных, гордых и самолюбивых характера, одинаково (при всей разности мотивов) озабоченные тем, чтобы и в любви, – именно в любви! – не уронить свое личное достоинство, не поступиться личной свободой, не подчинить свою волю воле другого. «Кларисса» в этом смысле, как и «Манон Леско» Прево, казалось бы столь на нее непохожая, уже предвещают позднейшие изображения надрывной, мучительной и мучительской любви, отравленной эгоизмом, униженной, затоптанной в грязь, – в литературе конца XIX и XX в. Ловлас слишком поздно узнает, сколько скрытой нежности было в «холодной» душе Клариссы. «Он не знал цены оскорбленному им сердцу» – с горечью повторяет она, когда между ними все уже кончено. И хотя в последние недели жизни она, кажется, уже отрешена от всех мирских помыслов и живет только мыслями о боге, любовь к Ловласу нет-нет да и прорывается, непризнанная и неназванная своим именем, между строк ее последних писем. Отказываясь, вопреки требованиям родных, преследовать Ловласа судом, она подкрепляет свое решение многими доводами: публичное разбирательство в суде, где ей пришлось бы давать показания, было бы нестерпимым позором, она не пережила бы первого заседания суда; к тому же странная история ее отношений с Ловласом могла бы показаться судьям неправдоподобной… Но третий и главный аргумент выдает ее тайну: ведь Ловлас повинен в преступлениях, за которые ему угрожает смертная казнь; как же может она выступить его обвинительницей? О том же говорит и настойчивость, с какою Кларисса требует перед смертью от своего кузена, полковника Мордена, торжественного обещания не мстить за нее и не вызывать Ловласа на дуэль (Морден, однако, нарушает это обещание в конце романа). И, наконец, в предсмертном письме к Ловласу она пишет о своем чувстве с всегдашней сдержанностью, в которой он, однако, на этот раз сумел ощутить живую сердечную теплоту. «Мне следовало бы краснеть, признаваясь, что когда-то я относилась к вам с предпочтением…» (XII, 239) – пишет она; и он, повторяя эти слова в письме к Бельфорду, восклицает: «Каким чопорным языком изъясняется в этих деликатных случаях девическая скромность! – «Признаваясь, что я когда-то любила вас» , – вот что это значит в переводе на английский язык; эти слова звучат и правдиво, и естественно… Так ты признаешься в этом, благородное созданье? Так, значит, ты признаешься в этом? – Какая музыка в этих словах!.. Чего бы ни дал я, лишь бы моя Кларисса была жива, и могла и захотела признаться, что она меня любит!» (XII, 243).
Но Кларисса в это время уже покоится в фамильном склепе Гарлоу-плейс.
<���…>
Фигуры, взятые из повседневного частного английского быта 1740-х годов, Ловлас и Кларисса, как бы разыгрывают в четырех стенах «одного дома» эпилог исторической драмы, первое действие которой началось в Англии столетием раньше, в эпоху английской буржуазной революции. Ловлас выступает как последний из «кавалеров», переживших Реставрацию; в Клариссе еще теплится революционный энтузиазм пуритан.
Спор идет теперь не о политической власти, не о перераспределении собственности; он превращается в спор аристократической «чести» с буржуазной «моралью». Характерно замечание Клариссы об одном из друзей Ловласа, Моубрэе: «Он высокого мнения о чести – слово, которое у него постоянно на устах; но, кажется, не очень дорожит моралью » (VII, 375). При этом отголоски пуританских размышлений о грехе, благодати и свободе воли сливаются с просветительскими размышлениями о «человеческой природе».
И Ловлас, и Кларисса, как и подобает героям просветительского романа, имеют свою точку зрения на «человеческую природу». Понимание «человеческой природы» у них различно, более того, резко противоположно, но каждому из них оно служит программой действий, критерием правильности всей жизни.
Ловлас исходит в своей этике из принципов аристократического материализма конца XVII – начала XVIII в. Его учителями, очевидно, были Гоббс и Мандевиль; последнего сам он называет «своим достойным другом» (IX, 243). Весь мир кажется ему огромной ярмаркой – образ, к которому он прибегает специально, чтобы «оправдать» свою низость в отношении Клариссы. «О, Бельфорд, Бельфорд! Какая подлая, подкупная обманщица, – у бедняков, как и у богачей, – человеческая природа!» (VII, 189).
<���…>
Неожиданная для Ловласа моральная стойкость Клариссы имеет в изображении Ричардсона принципиальное этическое обоснование. Кларисса – едва ли не самая героическая фигура среди персонажей английского просветительского романа – является как бы воплощением принципа человеческого достоинства. В своем сопротивлении Ловласу она опирается и на буржуазную чопорность, и на привитое воспитанием уважение к приличиям, – и это учитывает Ловлас, вовсе не ожидая, « что женщина, воспитанная и любящая формальности, уступит прежде, чем на нее будет поведено наступление» (VIII, 13). Но совершенно неожиданно для себя он обнаруживает, что «ее любовь к добродетели, кажется, является принципом , врожденным принципом, или, если не врожденным, то так глубоко укоренившимся, что побеги его вросли в ее сердце».
Совращение Клариссы Ловласом, – рассматриваемое в общей идейной перспективе просветительского романа, – приобретает, таким образом, философско-этическое значение своего рода эксперимента над «человеческой природой». «A test; a trial» – выражения, которыми постоянно пользуется в этой связи сам Ловлас.
Самонадеянное представление Ловласа о всеобщей «подлости», «подкупности» и «развращаемости» человеческой натуры терпит полное крушение в этом эксперименте. К Клариссе неприменима выработанная Ловласом система коррупции. «Чем могу я соблазнить ее? – в недоумении спрашивает он. – Богатством? Богатство… она презирает, зная, что́ это такое». Драгоценностями? Но украшения в ее глазах не имеют цены. Любовью? «Но если она и способна любить, то, кажется, лишь под таким контролем благоразумия, что, боюсь, нельзя рассчитывать даже на минутную неосторожность» (VIII, 242–243).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: