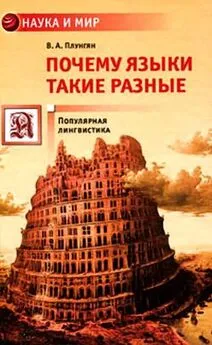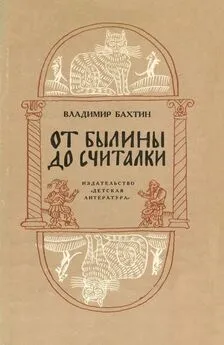Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
- Название:Волошинов, Бахтин и лингвистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0074-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика краткое содержание
Книга посвящена изучению лингвистических идей, содержащихся в трудах выдающихся отечественных ученых ХХ в. Михаила Михайловича Бахтина и Валентина Николаевича Волошинова, прежде всего получившей мировую известность книге «Марксизм и философия языка» (1929). Рассматривается место книги и примыкающих к ней статей в мировой науке о языке того времени, ее отношение к ведущим в те годы школам и направлениям мировой и отечественной лингвистики.
Подробно исследуются полемика авторов книги с концепциями Ф. де Соссюра и К. Фосслера и их собственная теоретическая концепция языка и высказывания. Особо рассмотрен вопрос о роли марксизма в языкознании. Изучены история написания книги и примыкающих к ней статей, их оценки современниками. Исследованы также более поздние работы М. М. Бахтина 30—60-х гг., изучены их сходства и различия с книгой «Марксизм и философия языка», рассмотрены предложенные Бахтиным концепции стратификации языка, речевых жанров, диалога. В последней главе определяется значение идей В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина для современной науки, рассмотрены идеи некоторых ученых, в той или иной степени продолжающих заложенную ими традицию.
Волошинов, Бахтин и лингвистика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В заметках также рассматриваются разные подходы к диалогу. Вновь, как и в РЖ, упомянута трактовка диалога в американском дескриптивизме – «диалог как цепь реакций»; под него подходят «верные и ложные высказывания, гениальные и бездарные высказывания»; такой подход, как и подход школы Фосслера, признается «относительно правомерным», однако этот подход не затрагивает сущности высказывания (334). Эта критика больше, чем что-либо иное в саранских тетрадях, напоминает критику «абстрактного объективизма» в МФЯ, хотя акценты все же другие: ни о какой «относительной правомерности» подобного подхода в МФЯ речи не могло идти.
В набросках снова автор возвращается к вопросу о тексте и высказывании, а также о (художественном) произведении, которое ранее рассматривалось как частный случай текста: «Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто лингвистического анализа не вытекает» (334). Л. А. Гоготишвили комментирует эту цитату так: здесь текст окончательно отнесен к лингвистическим понятиям (656). О высказывании в другом месте Бахтин вновь говорит, как и в РЖ, что это не языковая единица и не сопоставима с единицами языка (336). Исходя из всего этого, Л. А. Гоготишви-ли реконструирует систему понятий, к которой Бахтин пришел в 1961 г.: текст—высказывание в изоляции от диалога, высказывание– реальная единица речевого общения, произведение—высказывание особого типа (651).
Наконец, в записях 1961 г. вновь поднята проблема говорящего, собеседника и «героя». Бахтин пишет: «Слово нельзя отдать одному говорящему… Слово – это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио)»; третий—тот (то), о ком (чем) говорит ся (332). Ср. слова А. Гардинера об акте речи как «драме в миниатюре» с теми же персонажами.
Но участников диалога может быть еще больше: высказывание имеет собеседника («второго»), но есть и «нададресат» («третий»), понимающий «в метафизической дали» или «в далеком историческом времени», это может быть бог, народ, наука, суд истории и т. д. (337); Л. А. Гоготишвили замечает, что поскольку выше говорилось о трех участниках «драмы», точнее было бы говорить здесь не о «третьем», а о «четвертом». Наличие «третьего» может быть обнаружено при анализе высказываний: во фразе Всякий на моем месте солгал бы – предполагается наличие оправдывающей ложь инстанции, которая может не совпадать с собеседником (338).
Говоря о текстах 1959–1961 гг., следует считать их последней нам известной попыткой их автора написать лингвистическую работу. По жанру «Проблема текста» очень напоминает «Руководящие мысли» МФЯ в «Отчете». Видимо, здесь отражен и сходный этап работы. Тетрадь 1961 г. показывает, что работа продолжалась и позже. Однако работа опять-таки оказалась прерванной. Помимо других причин здесь очень вероятна и еще одна, которой раньше быть не могло. В конце 1960 г. началась переписка Бахтина с В. В. Кожино-вым, а в 1961 г. впервые встал вопрос о новом издании книги о Достоевском. Это предложение открывало возможность вернуться к читателю. Как отмечает Л. А. Гоготишвили, в тетради 1961 г., начиная с некоторого места, записи о высказывании уступают место записям о Достоевском. Начавшаяся переработка книги отвлекла внимание от всего остального.
VI.2.8. Фрагмент о металингвистике в книге о Достоевском
Начав перерабатывать старую книгу, Бахтин получил возможность включить в нее кое-что из того, к чему он пришел за последующие годы, в том числе и в области лингвистики. Одним из добавлений, отсутствующих в изданной в 1929 г. книге, стал фрагмент о лингвистике и металингвистике, открывающий пятую главу переработанного издания 1963 г. (далее ссылки на издание 1972 г. с указанием лишь номеров страниц). Он продолжает проблематику непосредственно предшествовавшей по времени «Проблемы текста». Однако формулировки здесь получают окончательную завершенность и кое в чем меняются.
С самого начала пятой главы «Слово у Достоевского» делается оговорка. Ее предметом является «язык в его конкретной и живой целокупности, а не язык как специфический предмет лингвистики, полученный путем совершенно правомерного и необходимого отвлечения от некоторых сторон конкретной жизни слова» (309). То, о чем говорится в главе, «можно отнести к металингвистике, понимая под ней не оформившееся еще в определенные отдельные дисциплины изучение тех сторон жизни слова, которые выходят—и совершенно правомерно—за пределы лингвистики. Конечно, металингвистические исследования не могут игнорировать лингвистики и должны пользоваться ее результатами. Лингвистика и металингвисти-ка изучают одно и то же конкретное, очень сложное и многогранное явление – слово (выше слово приравнивается к языку. – В.А.), но изучают его с разных сторон и под разными углами зрения. Они должны дополнять друг друга, но не смешиваться» (309–310). Это продолжает идеи более ранних работ, но с существенным отличием: раньше подчеркивалось, что у лингвистики и металингвистики (или соответствующей ей дисциплины, еще не имевшей названия) – разные обьекты, высказывание не относится к языку. Теперь оказывается, что и металингвистика изучает язык-слово, но под другим углом зрения.
Различие лингвистики и металингвистики иллюстрируется таким примером. С лингвистической точки зрения романы Достоевского менее интересны, чем произведения Л. Толстого, Писемского, Лескова и др., поскольку там «значительно меньше языковой дифференциации, то есть различных языковых стилей, территориальных и социальных диалектов, профессиональных жаргонов и т. п. …Может даже показаться, что герои романов Достоевского говорят одним и тем же языком, языком их автора» (310). Однако для металингвистики соотношение обратно, поскольку в отличие от перечисленных «писателей-монологистов» там роман «полифоничен», разные точки зрения сопоставлены или противопоставлены под «диалогическим углом» (310–311).
«Диалогические отношения (в том числе и диалогические отношения говорящего к собственному слову) – предмет металингвис-тики. В языке как предмете лингвистики нет и не может быть никаких диалогических отношений» (311). В том числе «не может быть диалогических отношений и между текстами, опять же при строго лингвистическом подходе к этим текстам» (311). Тем самым текст, как и язык, в отличие от того, что заявлено в «Проблеме текста», – явление и языковое, и метаязыковое в зависимости от принятого подхода. «Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им. Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка. Но лингвистика изучает сам „язык“ с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается. Отношения эти. должны изучаться металингвистикой, выходящей за пределы лингвистики и имеющей самостоятельный предмет и задачи» (312). Выше, правда, говорилось, что предмет у них один—язык, но по-разному изучаемый.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: