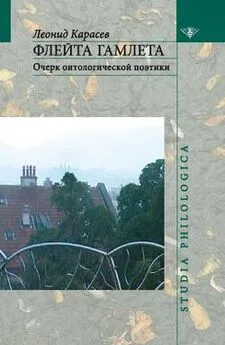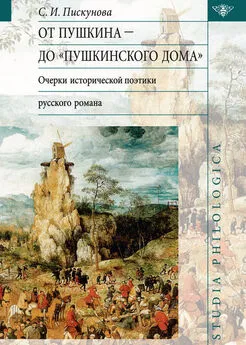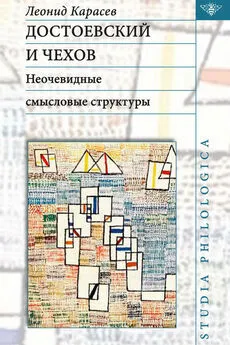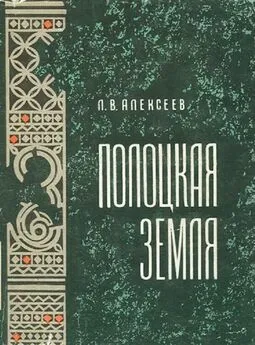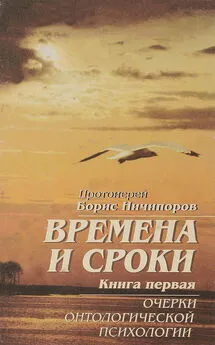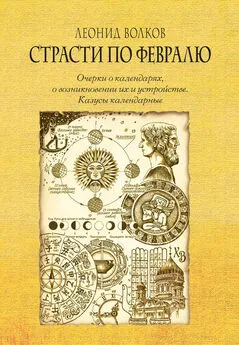Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Название:Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0308-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики краткое содержание
Книга является продолжением предыдущей книги автора – «Вещество литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001). Речь по-прежнему идет о теоретических аспектах онтологически ориентированной поэтики, о принципах выявления в художественном тексте того, что можно назвать «нечитаемым» в тексте, или «неочевидными смысловыми структурами». Различие между двумя книгами состоит в основном лишь в избранном материале. В первом случае речь шла о русской литературной классике, здесь же – о классике западноевропейской: от трагедий В. Шекспира и И. В. Гёте – до романтических «сказок» Дж. Барри и А. Милна. Героями исследования оказываются не только персонажи, но и те элементы мира, с которыми они вступают в самые различные отношения: вещества, формы, объемы, звуки, направления движения и пр. – все то, что составляет онтологическую (напрямую нечитаемую) подоплеку «видимого», явного сюжета и исподволь оформляет его логику и конфигурацию.
Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почему Скарпхедин в саге о Ньяле бросает в смеющегося над ним Гуннара зубом? Потому что зуб – это часть рта, а рот – это смех. Скарпхедин возвращает Гуннару его собственный смех, причем возвращает с избытком: зуб попадает Гуннару в глаз и выбивает его. Гуннар становится одноглазым, но одноглазие – это тоже одна из устойчивых масок или иноформ смеха (в предыдущем параграфе я упоминал об одноглазии Рочестера в связи с темой смеха) [9]. Когда речь идет о свете, то прежде всего о свете солнца. Смех – это свет, но солнце очевидным образом одиноко на дневном небе. Архаическое уподобление лица небу закрепляет за правым глазом смыслы солнца, света, радости, бодрствования, рождения, жизни. За левым – остаются соответственно смыслы луны, печали, слез, сна, болезни, смерти. Но что делать, если смех по тем или иным причинам оказывается исходным смыслом мифа? Есть специальные приемы, особая «техника»; например, описывая лицо героя, можно упомянуть о том, что один глаз был прищурен. История мифологии и литературы переполнена такого рода символическими прищурами. Причем здесь есть и свои правила: если речь идет о прищуре доброго персонажа, то пригашается левый глаз (дьявольский, лунный), если о персонаже злом, то, соответственно, прищуренным оказывается глаз правый – солнечный, благой. Черт – это «лукавый», то есть тот, кто криво усмехается, прищуривается на правый глаз: в числе знаменитых литературных примеров тут окажется и булгаковский «иностранец» с Патриарших прудов.
Однако такого рода «ослабления» зрения все же оставляют место для двусмысленности. Вот почему в мифе мы нередко встречаемся с прямым решением этого вопроса. Миф требует, чтобы звучал смех; миф требует, чтобы лицо было уподоблено небу с его одиноким солнцем. Так рядом с темой смеха появляется тема одноглазого лица. Скарпхедин выбивает глаз смеющемуся над ним Гуннару. Одиссей выкалывает единственный глаз смеявшемуся над ним Полифему. Вспомним также о смехе женихов Пенелопы и стреле, которая должна была пронзить маленькое кольцо. В «Одиссее» в соответствующей сцене ничего не говорится об одноглазии, и тем не менее этот смысл здесь присутствует: ведь стрелять из лука – значит прищуривать один глаз. Еще примеры. После того как стихает ночной смех демонов, кулик выклевывает глаз герою фиджийского мифа Туи-Лику, а Руко – воин с острова Пасхи, смеясь, убивает женщину; когда же погибает он сам, прилетает пеликан и выклевывает у него глаз и т. д.
Не менее впечатляет и растительно-плодородная и военно-эротическая символика смеха, вращающаяся возле таких экзотических пар, как «смех и волосы», «смех и безволосие», «смех и соль», «смех и мышь», «смех и змея» (две последние пары связаны с ночным подземным путем солнца) и т. д. Причем все это относится не только к мифу, но и современной литературе: например, в романе У. Эко «Имя Розы» есть почти весь набор мифопоэтических масок смеха, начиная от «круга», «крови» и «света» и кончая «свиньей» и «одноглазием» (обо всех этих сюжетах я подробно писал в своей «Философии смеха»).
Движение повествования, вернее, движение внутри обозначенных повествовательных границ (я говорю только об онтологическом срезе) осуществляется за счет своеобразной игры в равновесие, за счет смещения и выравнивания смыслового центра тяжести. Символический груз – эмблема – забрасывается вперед, в будущее, и текст начинает подтягиваться к им же созданной точке – как когда-то корабли двигались против течения. «Груз» может оказаться и позади текста, тогда движение сюжета, которое было слишком активным, будет сдерживаться: повествование окажется на привязи у себя самого. Фаустова дамба, заброшенная в самый конец огромной трагедии, тянет действие на себя, не давая ему сбиться посреди открывающихся дорог и тропинок. В «Портрете Дориана Грея» события, напротив, все время сдерживаются с самого начала обозначенным «тормозом». Портрет всегда «позади» Дориана; что бы он ни делал, он делает на фоне собственного онтологического двойника. Фауст сказал мгновенью «остановись» в самом конце повествования, Дориан – в начале. Отсюда существенные различия в принципах развертывания действия, которые можно увидеть в этих весьма близких по своему духу вещах. Символический центр может осциллировать: огромный белый кит и человек в романе Г. Мелвилла оказываются «на привязи» друг у друга; это похоже на механику движения двойной звезды. В «Соловье» Г. Х. Андерсена помимо центра реального, есть и центр ложный: при всей своей внешней незатейливости, эта история представляет собой довольно сложный организм – витальные смыслы здесь постоянно меняются местами, перетекают друг в друга, сходясь в конце и возвращая императора к жизни.
Примеров можно привести много. Но не в примерах дело, все они будут похожи друг на друга, вернее, схемы, лежащие в их основе, будут похожи. Дело и не в терминологии. Понятия иноформы, эмблемы, исходного смысла, энергии или порога – не более чем приспособления, позволяющие хотя бы отчасти удержать постоянно ускользающую материю смысла. Завершая этот раздел, я хочу еще раз обратить внимание на живой характер используемых понятий, на многозначность того слоя, который был обозначен мною как «онтологический». Самый верный способ испортить дело, это применить все, о чем шла речь, автоматически, прямолинейно: подобрать нужную схему и ею ограничиться. Даже в том случае, если направление поиска будет верным, от подобной ограниченности проиграет и схема, и интерпретация. Пытаться поймать исходный смысл в ловушку дефиниции раз и навсегда – то же самое, что пытаться удержать воду в сите. Исходный смысл на то и «исходный», что предполагает движение, развитие; от него нужно исходить и идти дальше с тем, чтобы в конце концов к нему и вернуться. Если бы можно было ограничиться только дефиницией или кратким изложением сюжета или замысла, тогда не нужно было бы писать всего сочинения: тут Толстой, говоривший о «сцеплении мыслей», создающих текст, совершенно прав.
Определить исходный смысл, очертить его приблизительные контуры, понять направление его движения – значит увидеть жизнь этого смысла, увидеть то, как он становится романом или поэмой. Личное и внеличностное тут примиряются, сбываются друг в друге. Хотя всякий исходный смысл – в силу своей общезначимости – представляет собой силу аподиктическую, надперсональную (в «Тексте и энергии» я называл это «пред-текстом» или «текстом-возможностью») воплощаться ему приходится через личные усилия автора; пройдя сквозь автора, он невольно приобретает его черты. Достоевскому не было нужды заново открывать мифопоэтические смыслы, спрятанные в камне – могилу, смерть или тяжесть, – однако то, как он выписал эти смыслы, относится уже только к его личности. Почти в каждом романе Достоевского есть по одному, а иногда и более, символическому камню, причем речь идет не только о метафоре (камень вины и греха сидит в человеке), но и об эмблемах фактических. В «Преступлении и наказании» – это камень во дворе дома по Вознесенскому проспекту, где Раскольников «схоронил» украденные им деньги и драгоценности. В «Братьях Карамазовых» – это «Илюшин камень», возле которого собираются дети в финале романа и Алеша Карамазов говорит им о будущем воскресении из мертвых. В «Бесах» – это камни, привязаные к телу убитого Шатова, которые должны были утопить его в пруду. В «Идиоте» «каменным» становится тело Настасьи Филипповны: на последних страницах романа оно описано как «мраморное». Это похоже на историю Пигмалиона и Галатеи, но только развернувшуюся в обратном направлении: Пигмалион оживил каменную статую, Рогожин, напротив, живую женщину обратил в камень. В этот же ряд вписывается и «каменный» Порфирий Петрович (порфирит плюс камень), самоубийство Свидригайлова, «придавившее» Раскольникова, и т. д. В этом смысловом ряду все подвижно, здесь возможны переходы с одного смыслового уровня на другие с соответствующим изменением перспективы движения и масштаба символизации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: