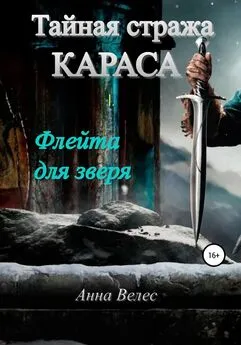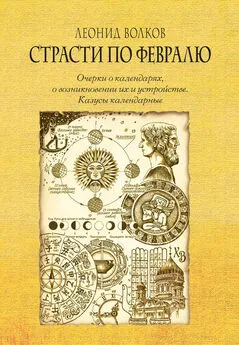Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Название:Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0308-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики краткое содержание
Книга является продолжением предыдущей книги автора – «Вещество литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001). Речь по-прежнему идет о теоретических аспектах онтологически ориентированной поэтики, о принципах выявления в художественном тексте того, что можно назвать «нечитаемым» в тексте, или «неочевидными смысловыми структурами». Различие между двумя книгами состоит в основном лишь в избранном материале. В первом случае речь шла о русской литературной классике, здесь же – о классике западноевропейской: от трагедий В. Шекспира и И. В. Гёте – до романтических «сказок» Дж. Барри и А. Милна. Героями исследования оказываются не только персонажи, но и те элементы мира, с которыми они вступают в самые различные отношения: вещества, формы, объемы, звуки, направления движения и пр. – все то, что составляет онтологическую (напрямую нечитаемую) подоплеку «видимого», явного сюжета и исподволь оформляет его логику и конфигурацию.
Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос о финалах имеет прямое отношение и к данной работе. Можно закончить ее прямо сейчас, а можно написать еще столько же. Нанизывание примеров и попытки уточнить те или иные вещи ведут, как выясняется, к созданию новых сложностей, также требующих объяснения и новых примеров.
«Онтология и поэтика» – сочинение незаконченное. Здесь нет итогов, многое еще недопонято, не прописано или вообще не взято во внимание. Это начало работы, а не ее финал. Однако раз уж зашла речь о финалах, стоит, вспомнив о возможностях чисто технических, все-таки остановиться.
Изложение общих идей – дело неблагодарное, хотя именно благодаря общим идеям становится возможным каждое узкое и очень конкретное исследование. Тут оказываешься в положении, смысл которого отчетливо выразил Н. Хомский, обосновывая свой подход к теории синтаксиса: если идет речь об обобщениях, но неизбежно некоторое, молчаливо подразумеваемое упрощение фактов, о которых нужно постоянно помнить [12]. Понять – значит упростить: в этом афоризме помимо вынужденно-пессимистического оттенка есть и надежда на возможность дальнейшего движения мысли. Ведь актом схватывания-упрощения дело не заканчивается. Понимание чревато продолжением, желанием продолжить мысль: понимание ищет для себя применения и, следовательно, осуществляясь в материи текста, снова идет к усложнению.
Дело, в конце концов, и не в формулировке каких-то специальных законов, не в особом, обозначающем определенную научную или идейную территорию лексиконе. Несмотря на терминологическое многообразие, гуманитарная наука все время в общем-то говорит об одном и том же. Проходит время, и выясняется, как много общего было между теми интеллектуальными стратегиями, которые в момент своего появления мыслили себя принципиально новыми и непохожими на все остальные. Но вот что удивительно: это странное топтание на месте оказывается вовсе не бесполезным. Держась одного и того же места, можно уйти очень далеко, так как постепенно приходит понимание того, что движется само место. Все, собственно, и сводится к осознанию единства движения и покоя, смены языков описания и неизменности того, о чем идет речь, к пониманию того, что загадка человека – не в том, в какую сторону он меняется, в худшую или лучшую, быстро или медленно, а в том, что он вообще не меняется. Признав последнее, мы с необходимостью придем к положению, напоминающему то, что сложилось в отношении только что упоминавшейся проблемы понимания-упрощения. Претерпевают изменение символические одежды человека, культурный контекст, а сам он – сущностно – остается прежним. Но как раз это и подводит нас к тайне изменения, ведь неизменный человек каждый раз осуществляет себя в новых, непохожих на предыдущие, условиях, а значит и ответы на «вечные», неизменные вопросы он всякий раз должен искать новые.
Все дело в том «чуть-чуть», которое присутствует в каждом новом взгляде, благодаря которому прежние, хорошо знакомые вещи начинают наполняться новым смыслом подобно тому, как инструмент для колки орехов в руках Тома Кенти превратился в Большую королевскую печать. Предмет остался прежним, но при этом изменился. Если сравнить сказанное с той интеллектуальной ситуацией, которую можно лишь условно назвать «современной», поскольку она пребывает в этом состоянии уже лет двадцать или тридцать, то смысл изменения, о котором я говорю, можно свести к следующим позициям.
Онтологический интерес состоит в смене акцентов, в возврате к старым попыткам пробиться к вещам, сквозь прикрывающие их символические оболочки, пусть не до конца, но, во всяком случае, насколько это возможно. Это путь от «поверхностей» текста к глубинам стоящей за ним жизни; путь от маргиналий, черновиков или заготовок – к текстам хрестоматийным, прославленным, своего рода литературным монументам; от поиска неточностей, двусмысленностей, «темных» мест – к вещам очевидным и открытым; от интереса к сексуальным перверсиям, извращениям, садомазохизму, кастрации и вообще телесной агрессии – к спокойной духовности и осмысленному отношению к загадке человеческого тела; от противопоставления речи письменной и речи звучащей – к пониманию, идущему от сердца; от противоположения автора и читателя или их уравнивания – к тому онтологическому лексикону, который их объединяет и вообще дает возможность быть «автором» и «читателем»; от равнодушного универсализма архетипа – к персональной мифологии и судьбе; от пафоса научной отстраненности и культурной иронии – к сочувствию природному смертному человеку, автору, читателю; от «краев» философии – к ее «центру»; от знаков – к веществам; от хаоса символики – к иерархии нравственного действия; от любования нарочитой сложностью и игрой в бесчисленные разноязыкие подробности – к имманентной простоте и ясности.
Прославленный или «классический» текст – это сбывшаяся персональная судьба, это победа стоящего за ней универсального онтологического контекста. Здесь – ключ к литературе второго и третьего рядов. Прославленный текст выступает как знак, эмблема определенного типа жизнестроительства или смыслополагания, к которому тяготеют очень многие люди. Многие, но не все: кому-то ближе другая эмблема, другой тип смыслополагания. Так, собственно, и формируется круг читательских предпочтений или антипатий. Слова «Мне близок Достоевский» или «Я не понимаю Кафку» говорят не столько об уровне интеллектуальной или эстетической подготовленности читателя, сколько о типе его бытийной ориентации. При таком взгляде и автор, и читатель временно уходят в тень, а на первом месте оказываются неочевидные текстовые структуры, некий отправной онтологический лексикон, дающий и автору, и читателю возможность быть и сообщаться друг с другом. Литературное дело здесь преобразуется в философское, а поэтика текста все более и более перерастает в его метафизику.
Если пытаться идти дальше, то нужно выбрать, в какую сторону двигаться, ибо дорога в этом месте очевидно раздваивается. Одна ведет к проблеме культуры, понятой как механизм противостояния смерти, т. е., в конечном счете, к проблеме живого и мертвого человеческого тела. Другая – к принципам организации текста, смысл которых выходит далеко за пределы не только литературы, но и самой культуры. За «веществом» текста начинает прощупываться вещество в собственном смысле этого слова, а в законах, организующих текст, стягивающих его в единый узел, в живую пульсирующую целостность, проступают законы устройства самого вещества. Текст, и прежде всего, текст мифологический, судя по всему, обладает «памятью» о процессах, происходивших в гипотетическом начале мира; он может рассказать о тайнах жизни, материи и пространства не меньше, чем кусок древней породы или реликтовое излучение, приходящее из глубин Космоса. В конце концов обе дороги смыкаются, но это уже относится к такому уровню понимания, которое вряд ли может быть выражено на бумаге, если вообще может быть выражено. Собственно, к нему и стремится на протяжении всего своего существования человеческая культура, перелистывая страницы пережитого и надеясь на то, что «связь времен», а значит и самого человека еще удастся когда-нибудь «восстановить».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: