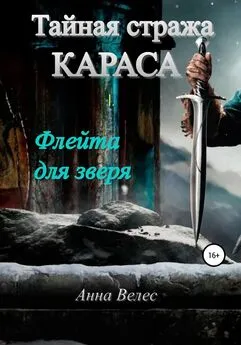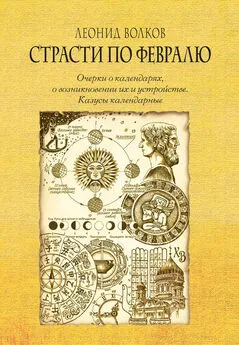Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Название:Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0308-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Карасев - Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики краткое содержание
Книга является продолжением предыдущей книги автора – «Вещество литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001). Речь по-прежнему идет о теоретических аспектах онтологически ориентированной поэтики, о принципах выявления в художественном тексте того, что можно назвать «нечитаемым» в тексте, или «неочевидными смысловыми структурами». Различие между двумя книгами состоит в основном лишь в избранном материале. В первом случае речь шла о русской литературной классике, здесь же – о классике западноевропейской: от трагедий В. Шекспира и И. В. Гёте – до романтических «сказок» Дж. Барри и А. Милна. Героями исследования оказываются не только персонажи, но и те элементы мира, с которыми они вступают в самые различные отношения: вещества, формы, объемы, звуки, направления движения и пр. – все то, что составляет онтологическую (напрямую нечитаемую) подоплеку «видимого», явного сюжета и исподволь оформляет его логику и конфигурацию.
Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мотив яда, влитого в ухо, сказывается также и в обстоятельствах убийства, и в его оценках. Если король был укушен змеей, значит, он погиб от яда. Но король и вправду погиб от яда, и следовательно, официальная версия – при всей ее лживости – довольно точно отражает суть произошедшего. Призрак назвал своего брата-убийцу «змеей» (serpent). Это сравнение находит поддержку не только в том, что в дело пошел яд (то есть оружие змеи), но и в том, что яд был влит именно в ухо. Метонимия перерастает в метафору: возникает тема змея-искусителя, влившего «яд» лживых слов в ухо Евы. Отравив ухо короля, змей-Клавдий отравил и «ухо Дании», а роль Евы в данном случае досталась Гертруде.
Яд, влитый в ухо, – ложь, которую слышит человек. Так оформляется одна из важнейших тем шекспировской трагедии: яд, ложь и слово смешиваются друг с другом, рождая вопрос, мучающий Гамлета на протяжении почти всего действия трагедии. Можно ли верить тому, что слышишь, можно ли доверять входящим в уши человеческим словам?
Слова, слова, слова…
У Гамлета было немало возможностей убедиться, что слух – вещь ненадежная. В самом деле, как только Гамлет доверяется тому, что ему говорят, он, как правило, попадает в плен ошибки или обмана.
Почти все, что он слышит от тех, кто его окружает, оказывается неправдой, ложью – намеренной или невольной.
«Хитрая речь спит в глупом ухе» – Гамлет осознает то, что звучащие на воздухе слова очень часто не соответствуют действительному положению вещей. Слова и истина – далеко не одно и то же. Недоверие к речи звучащей сказывается и на отношении к речи письменной. Так появляется знаменитый ответ Гамлета на вопрос о содержании читаемой им книги: «Слова, слова, слова». «Слово» вообще становится синонимом лжи, пустоты, обмана, бессвязности, необязательности. Сказано или написано одно, а сделано или подумано совсем другое. Гамлет совершил открытие универсальное, всечеловеческое, потому-то оно его так глубоко и задело.
Слова – это звуки; следовательно, и звуки могут обманывать. То, что звучит – неистинно, тленно. Возможно, из подобного обобщения появляется сравнение жизни с «бренным шумом» (mortal coil). «Бренное» – значит тленное, преходящее, непрочное, ошибочное. Положившись на слух, Гамлет протыкает шпагой ковер и стоящего за ним Полония, которого подвело, кстати сказать, то же самое, что и Гамлета. Подняв шум за ковром, он перевел метафору «бренного шума» из области символики в реальность – превратился из живого в мертвого.
Сцена гибели Полония – это уже почти обвинение в адрес звука и слуха, а Гамлет, до этого момента лишь разыгрывавший безумие, теперь оказывается на грани безумия вполне реального.
Слуху верить нельзя, но тогда, может быть, стоит довериться зрению?
Зрение против слуха
В шекспировских пьесах зрение нередко оказывается столь же ненадежным, как и слух. Однако в «Гамлете» ситуация иная – похоже, это единственная трагедия Шекспира, где зрение идет как гарант истины, в противоположность лживости слова и слуха.
Горацио, выслушав историю о Призраке, не верит ушам и хочет увидеть все собственными глазами. Увидев же Призрака, он, будто оправдываясь перед Гамлетом, ссылается на зрение как на последнюю инстанцию, способную подтвердить истинность его слов.
Клянусь вам Богом, я бы не поверил,
Когда бы не бесспорная порука
Своих же глаз…
А еще раньше, в самом начале трагедии противостояние зрения и слуха дано в виде поединка или битвы: Горацио сомневается в правдивости рассказа ночных стражников, и тогда один из них переводит свою речь в метафорическую плоскость и бросает на «штурм» ушей Горацио, «укрепленных» против его слов, все, что он видел на протяжении двух прошедших ночей.
Замечательная особенность: упоминания о слухе и зрении особенно часты, когда среди действующих лиц появляется Гамлет. С какой-то странной настойчивостью об ушах и глазах или о зрении и слухе говорят либо те, кто с ним встречается, либо он сам. На протяжении первого действия такого рода упоминания становятся почти что правилом, доводя подчас дело до перебора, логической неувязки, как, например, в эпизоде, где Гамлет просит своих друзей сохранить в тайне его встречу с Призраком. Сначала Гамлет просит их никому не говорить о том, что они видели, а затем – о том, что слышали. И если с первой просьбой все более менее понятно, то вторая совершенно излишня, поскольку Гамлет им ничего о своей встрече не сказал, а сами они ничего слышать не могли.
Очень выразительна сцена объяснения Гамлета с королевой-матерью. Гертруда просит у сына снисхождения, она говорит, что слова Гамлета «пронзают ее уши кинжалами» (вспомним об ухе короля), и хотя Гамлет объясняется с матерью с помощью слов, реально это передано через метафору зрения: слова Гамлета поворачивают глаза королевы внутрь ее существа. Иначе говоря, Гертруда обретает внутренне зрение-знание. Нечто в этом же роде произошло с Гамлетом во время его встречи с Призраком. Хотя Призрак взывает к слуху Гамлета («Слушай, слушай, слушай»), сам факт того, что слова произносятся привидением, стоит многого. Сами слова в данном случае обретают особый ранг, они тоже становятся призрачными, можно сказать, что они скорее пригрезились Гамлету, нежели были им реально услышаны. Гамлету привиделась истина.
Наконец, в этом же ряду оказывается и сцена «Мышеловка», где принц хочет «приковать» свои глаза к лицу Клавдия, чтобы угадать истину. Тут любопытна подробность, на которую обычно не обращают внимания. Король выдает себя не с первой минуты пьесы, а лишь когда разыгрывается сцена отравления. Отчего так? Ведь все было на виду уже с самого начала: в пантомиме, с которой начинается представление, актер-король ложится спать, а актер-злодей вливает ему в ухо яд. Если опереться на мотив «спора» зрения и слуха как на символическую (и вместе с тем вполне «телесную») основу трагедии, эта странность объяснится. В противоположность Гамлету, полагающемуся на зрение и не доверяющему слуху, Клавдий воспринимает лишь звучащие слова, а зрению не верит. Вот почему пантомима, то есть зрелище, его не трогает, тогда как то же самое событие, но снабженное соответствующими словами-пояснениями, буквально выводит из себя. Если продлить наметившуюся линию далее, то можно сказать, что в символическом смысле Клавдий – слеп, а Гамлет – глух. Зато Клавдий – мастер лживых слов, а Гамлет – гений зрения.
Острота гамлетова взгляда изумляет, она кажется сверхъестественной: лишившись способности «слышать» и понимать, Гамлет обретает зрение-знание высочайшей разрешающей способности.
Разрешающая способность
Интервал:
Закладка: