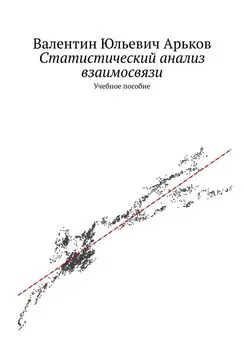Наталия Николина - Филологический анализ текста. Учебное пособие.
- Название:Филологический анализ текста. Учебное пособие.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «Академия»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7695-0954-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Николина - Филологический анализ текста. Учебное пособие. краткое содержание
Учебное пособие знакомит студентов с различными приемами анализа текста, его разных жанров, формирует у них представления об основных понятиях современной лингвистической поэтики, а также вырабатывает навыки анализа различных видов текста. Теоретические понятия раскрываются на конкретном материале. Для анализа привлекаются художественные произведения русских писателей XIX —XX вв.
Книга может быть интересна также преподавателям средних школ и колледжей.
Филологический анализ текста. Учебное пособие. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А у нас пойдет марфунство:как? да что? да, может быть иначе нужно?.. Может быть, только мы и выслужим за свое марфунство.
— Опять новое слово, — заметил весело Долинский, — то раз было комонничатъ,а теперь марфунствовать (выделено Н.С. Лесковым. — Н.Н.); — Всякое слово хорошо, голубчик мой... если оно выражает то, что хочется им выразить...
Интертекстуальные связи дополняются в произведениях Н. С.Лескова интермедиальнымисвязями. Под интермедиальными связями понимаются связи литературного произведения с произведениями других родов искусств (прежде всего живописи и музыки), актуализированные в тексте и значимые для его построения и понимания. Так, сопоставление западноевропейских картин и древнерусских икон в экспозиции рассказа Лескова «На краю света» служит отправной точкой для развития его основных мотивов.
Таким образом, элементы «чужих» текстов и восходящие к ним образы представлены на разных уровнях художественных произведений Н.С. Лескова. Они выполняют различные функции и обладают огромным смысл ообразующим потенциалом. Цитата, с одной стороны, вмещает в себя «всю ту литературно-художественную структуру, откуда она заимствуется или куда она обращена» [350] Виноградов В.В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. — Л., 1934. — Т. 16-18. — С.153—154.
, с другой — преобразуется в тексте Лескова и расширяет перспективу изображаемого.
1. Обратитесь к тексту комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». Найдите в тексте цитаты из других произведений и реминисценции.
2. Выявите открытые и скрытые реминисценции. Определите их роль в структуре драматического текста с учетом сценической условности.
3. Какие реминисценции в комедии являются пародийными? Какова их роль в тексте?
4. Проанализируйте ремарку третьего акта. Соотнесите упоминаемый в ней текст «Грешницы» А.К.Толстого с ситуациями третьего акта и пьесы в целом.
5. Найдите в пьесе «точки сходства» с сюжетикой А.Н. Островского. В чем их функция?
6. Исследователи отмечали переклички пьесы «Вишневый сад» с драмой М. Горького «На дне», создающие эффект приращения смысла. В чем вы видите эти переклички?
7. Согласны ли вы с мнением И.Л. Альми: «Сложные литературные ассоциации окружают фигуру Лопахина. Слова-символы — "мужик" и "топор", понимание покупки имения как акта родового торжества — наряду с добротой и желанием помочь своим социальным "оппонентам" — приближают коллизию Лопахина к схеме отношений главных героев "Капитанской дочки"» [351] Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. — Владимир, 1999. — Кн. 2. — С. 242.
.
Интертекстуальные связи рассказа Т. Толстой «Любишь — не любишь»
Для постмодернизма характерна картина мира, «в которой демонстративно, даже с какой-то нарочитостью, на первый план вынесен полилог культурных языков,в равной мере выражающих себя в высокой поэзии и грубой прозе жизни, в идеальном и низменном, в порывах духа и судорогах плоти» [352] Липовецкий М. Русский постмодернизм. — Екатеринбург, 1997. — С. 11.
. Взаимодействие этих языков обусловливает «обнажение» элементов интертекста, которые выступают в роли конструктивного текстообразующего фактора. Новый текст уже не только ассимилирует претекст (чужой дискурс или культурный код), но и строится как его интерпретация, осмысление. Он пронизан цитатами, аллюзиями и реминисценциями, которые образуют смысловые комплексы, связанные друг с другом. Интертекстузльные элементы, восходящие к одному или сходным источникам, выделяющие одну тему (мотив) или образ, также объединяются в комплексы, которые могут вступать в диалог.
Цитатным в рассказе Т. Толстой является уже заглавие, отсылающее к считалке-гаданию «Любишь — не любишь...». «Любовь» или «нелюбовь» в ней определяются волей случая и, таким образом, равновероятны.
Текст рассказа, для которого характерно повествование от первого лица, строится как воспоминания о детстве, при этом в повествовательной структуре последовательно используется именно детская точка зрения. Воссоздавая процесс освоения мира словом, автор как бы моделирует процесс его познания, перевоплощаясь в ребенка, «обреченного войти в круг чувственного мышления, где он утратит различие субъективного и объективного, где обострится его способность воспринимать целое через единичную частность...» (С.М. Эйзенштейн) [353] Цит. по кн.: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. — М., 1976. — С. 70.
.
В остраненных описаниях или рассуждениях, отражающих детскую точку зрения, отчетливо выделяется граница между «своим» и «чужим» миром. «Чужой» мир представляется ребенку холодным и враждебным, «свой» — согрет теплом любимой няни: Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце [354] Толстая Т. Любишь — не любишь. — М., 1997. — С. 22. Все цитаты в дальнейшем приводятся по этому же изданию.
.
Мифологические и сказочные образы, возникающие в сознании ребенка, отражают оба мира, которые противопоставлены в тексте, и упорядочивают их. В образной системе рассказа воссоздана картина мира ребенка, обладающая жесткой противопоставленностью оценок и неожиданно «воскрешающая» элементы ми-фопоэтического мышления: Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу?.. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отставшими обоями — Индрик и Хиздрик...
Ряд мифологических образов составляет первый «слой» интертекста в рассказе. Он дополняется знаками других культурных кодов и текстов.
В общем пространстве текста соотносятся и вступают в диалог интертекстуальный комплекс, связанный с образом «любимой няни Груши», и интертекстуальный комплекс, соотнесенный с образом Марьиванны, которую девочка ненавидит: Маленькая, тучная, с одышкой, Марьиванна ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики, «песочное кольцо», которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, чтобы их распугать.
Любимая няня Груша «никаких иностранных языков не знает», с ней связан мир сказок и преданий (отдельные формулы которых проникают в текст), а также воспринимаемый народным сознанием мир Пушкина и Лермонтова: Пушкин её [няню] тоже очень любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: «Свинюшка толстая моя!» Речь няни почти не представлена в рассказе, однако с ней связаны цитаты из произведений Пушкина и Лермонтова. Ср.:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: