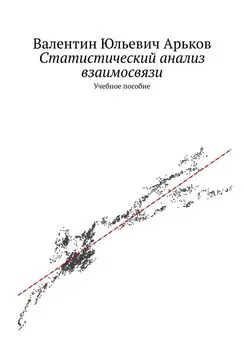Наталия Николина - Филологический анализ текста. Учебное пособие.
- Название:Филологический анализ текста. Учебное пособие.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «Академия»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7695-0954-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Николина - Филологический анализ текста. Учебное пособие. краткое содержание
Учебное пособие знакомит студентов с различными приемами анализа текста, его разных жанров, формирует у них представления об основных понятиях современной лингвистической поэтики, а также вырабатывает навыки анализа различных видов текста. Теоретические понятия раскрываются на конкретном материале. Для анализа привлекаются художественные произведения русских писателей XIX —XX вв.
Книга может быть интересна также преподавателям средних школ и колледжей.
Филологический анализ текста. Учебное пособие. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Холод и «тоску враждебного мира» испытывает не только маленькая героиня, но и старая Марьиванна, уходящая «за предел». Текст рассказа дает, таким образом, новое осмысление включенным в него элементам претекстов. Миры, определяемые интертекстуальными комплексами, которые сопоставляются в рассказе, оказываются взаимопроницаемыми и пересекаются. Маленькая героиня связана с обоими мирами: она, с одной стороны, испытывает жажду любви и тепла, с другой — жажду слова, ср.: Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд — а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!
Противопоставление двух разных дискурсов актуализирует в рассказе метаязыковую тему — роль языка в общении и самовыражении. «Интертекстуальность становится механизмом метаязыковой рефлексии» [359] Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, интертекст в мире текстов. – М., 2000. — С. 38.
(выделено Н.А. Фатеевой. — Н.Н.). Соотносительность же выделяемых интертекстуальных комплексов подчеркивает параллелизм, почти зеркальность ситуаций рассказа: маленькая героиня любит няню Грушу и ненавидит «глупую, старую, толстую, нелепую» Марьиванну, но при этом страдает от ее неприязни. Оказывается, однако, что другая девочка нежно любит это «посмешище» и именно в ней видит свою «дорогую нянечку»: И смотрите — эта туша, залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они — чужие/ — вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви! — Это нянечка моя! Любящая же эту девочку Марьиванна, в свою очередь, страдает от нелюбви к ней героини, которую не понимает.
Повтор нянечка моя сближает в тексте субъектно-речевые планы и главной героини, и «худой» девочки: любимой нянечкой в результате называется в рассказе и Груша, и «нелепая» Марьиванна. Перекличка ситуаций и совпадение наименований (нянечка моя), казалось бы, противопоставленных персонажей возвращает к цитатному заглавию «Любишь — не любишь», подчеркивающему непредсказуемость и субъективность чувства, независимость любви от законов логики. В повествование, организованное точкой зрения ребенка, вторгается голос «взрослого» повествователя, утверждающего иррациональность любви:
Это нянечка моя!
Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка!..
Но разве любовь об этом знает?
Таким образом, взаимодействие интертекстуальных элементов в рассказе «Любишь — не любишь» определяет его композиционную и смысловую доминанту, выделяет сквозные оппозиции текста, актуализирует скрытые смыслы. В свою очередь, текст произведения дает новое осмысление включенным в него претекстам.
1. Прочитайте рассказ Т.Толстой «Река Оккервиль».
2. Выделите в нем элементы интертекста. Укажите источники претекстов.
3. Определите основные формы интертекстуальных связей (цитаты, реминисценции, аллюзии и др.).
4. К какому тексту отсылают начальная и конечная части произведения, обрамляющие рассказ? Как этот интертекстуальный комплекс интерпретирует образ героя?
5. Определите роль в тексте цитат и реминисценцийиз произведений М.Ю. Лермонтова.
6. Покажите связь интертектсуальных элементов и тропов текста.
7. Как преобразуются в рассказе претексты? Какую роль играет это преобразование в интерпретации рассказа «Река Оккервиль».
Комплексный анализ прозаического текста
Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»
Итак, мы рассмотрели ряд аспектов филологического анализа текста. Они связаны с основными текстовыми категориями: целостностью, субъектностью и адресованностью (структура повествования), темпоральностью и локальностью (художественное время и пространство), оценочностью, интертекстуальностью. Каждая из этих категорий открывает путь к интерпретации произведения и может служить отправным пунктом комплексного филологического анализа текста (см. примерную схему анализа на с. 9). Комплексный анализ — это анализ обобщающего типа, который предполагает расположение композиционно-речевой структуры текста, его образного строя, пространственно-временной организации и интертекстуальных связей. Цель комплексного анализа — показать, как специфика идеи художественного произведения выражается в системе его образов, в составляющих текст компонентах. Как уже отмечалось, в этом случае целесообразно использовать анализ «челночного»характера, базирующийся на переходах от рассмотрения содержательных категорий к форме (и наоборот). При этом не следует стремиться проанализировать «все образно-языковые параметры» [360] Максимов Л.Ю. О методике филологического анализа художественного произведения (на материале рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание») // Русский язык в школе. — 1993. — № 6. — С. 5.
художественного текста: для комплексного филологического анализа, как правило, достаточно последовательно рассмотреть несколько аспектов текста и выявить его неочевидные смыслы и системные связи составляющих его компонентов. Обратимся к комплексному анализу одного текста — текста рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» принадлежит к наиболее известным произведениям И.А. Бунина и многими критиками оценивается как вершина его дооктябрьского творчества. Опубликованный в 1915 г., рассказ создавался в годы Первой мировой войны, когда в творчестве писателя заметно усилились мотивы катастрофичности бытия, противоестественности и обреченности технократической цивилизации. Как и многие его современники, Бунин почувствовал трагическое начало новой эпохи: «Кто вернет мне прежнее отношение к человеку? — пишет он другу. — Отношение это стало гораздо хуже — и это уже непоправимо» [361] Цит. по кн.: Мальцев Ю. Бунин. — Frankfurt/M.; Москва, 1994. — С. 228.
. В интервью 1916 г. Бунин замечает: «В мире происходит огромное событие, которое опрокинуло и опрокидывает все понятия о настоящей жизни» [362] Там же.
(ср. также: «Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница Библии. Дух Божий носился над землей, и земля была пуста и неустроенна»). Все большее значение в этот период в произведениях писателя приобретают темы рока, смерти, мотив «бездны».
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» занимает особое место в творчестве Бунина. С одной стороны, в нем наиболее полно представлены приемы, определяющие стиль писателя в этот период, а также новые тенденции развития русской прозы в начале XX в.: ослабление роли сюжета, использование принципа сквозного повтора, пронизывающего весь текст и объединяющего различные его фрагменты, активное употребление разных типов тропов и синтаксических смещений, усиление многозначности образов, актуализация связи тропа с темой или изображаемой ситуацией, наконец, обращение к ритмизованной прозе, основанной «на последовательности однородных элементов сложного интонационно-ритмического целого, со слабо маркированным синтаксическим параллелизмом, анафорами преимущественно служебных слов, отдельными подхватами и широким использованием парных и тройных слов и синтаксических групп» [363] Жирмунский В.М. О ритмической прозе // Теория стиха. — Л., 1975. — С. 582.
. С другой стороны, «Господин из Сан-Франциско» — пожалуй, единственное произведение Бунина, в котором достаточно прямо выражены авторские оценки, максимально ослаблено лирическое начало, характерное для прозы писателя в целом, использованы прозрачные аллюзии и образы-аллегории, см., например, последнюю часть рассказа:
Интервал:
Закладка: