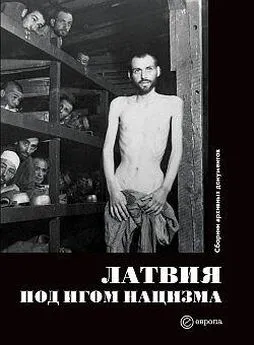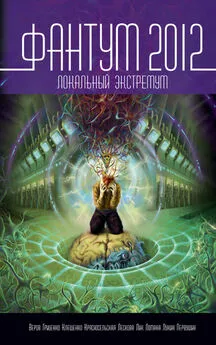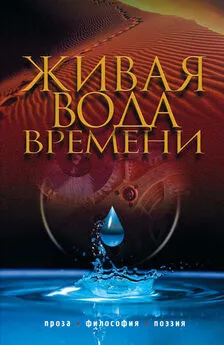Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Название:Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НМЦ «Логос»
- Год:2010
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова краткое содержание
Замысел этого сборника родился на спецкурсе «Творчество Иосифа Бродского», который читается на факультете филологии и журналистики ЮФУ. Существенную часть курса составляют опыты коллективного пристального прочтения ключевых стихотворений поэта. Успехи исторической поэтики, понятой формально, серьезно отвлекают исследователя от художественного целого — все внимание зачастую сосредоточивается на судьбе отдельных поэтических элементов в контексте творчества, эпохи, истории литературы. Однако для литературоведа как профессионального читателя текстов вдумчивое исследование элементов необходимо прежде всего для понимания художественного целого. Сказанное вполне относится и к исследованиям творчества И. Бродского. Бродсковедению не хватает опыта пристального прочтения стихотворений поэта. Книга поделена на пять разделов — ее открывает обобщающее эссе о поэте, написанное к юбилею, далее следует раздел, посвященный прочтениям одного стихотворения, следом — разделы, посвященные циклам и эссе Бродского. Заключает сборник теоретическая статья о западной традиции работы с текстом, которая стоит за установкой на пристальное прочтение.
Книга предназначена для филологов, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто интересуется творчеством И.А. Бродского.
Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Примечательно, что свобода у лирического героя не является метафизической категорией — она максимально конкретна и сиюминутна, выражена несколькими мелочными ситуациями, которых лирическому герою оказывается достаточно, чтобы говорить о свободе. И тот факт, что эти мелочи называются «свободой», говорит, прежде всего, о масштабе несвободы, у которой эти мелочи нужно отвоевывать. Несвобода здесь — это логика мироздания, в котором «жизни, видимо, нет нигде» (№ 8), а последнее, что остается, представления о жизни передать не может. Это еще один вариант той войны, в контексте которой ощущает себя лирический герой (№ 9).
От этого постоянного состояния войны с настоящим, хотя вставать «никогда не хотелось» (№ 13), «мозг перекручен как мозг барана». Однако слез больше нет. Состояние войны с настоящим в финале цикла становится для лирического «я» экзистенциальной нормой, которую нужно принять. Весь цикл фактически показывает, каким образом это состояние становится нормой, подавляя «слишком человеческое». С тем, чего нельзя преодолеть, нужно ужиться, но это уживание качественно изменяет лирическое «я». Лирический герой становится автором-творцом, а последний — «частью речи», которая далека от лирического героя, как заячий след от самого зайца (№ 18).
Прослеживая развитие двух предыдущих линий лирического сюжета, можно было заметить, что часто — и по нарастающей к концу цикла — в отношения поэтического сознания с внешним миром, адресатом вклинивается иная ценностная сила — язык. Однако язык в цикле «Часть речи» — внешняя онтологическая сила, постепенно обретаемая поэтическим сознанием в качестве «другого». При этом само появление этой силы — следствие ценностных перемен, происходящих в самом лирическом «я».
Первый отголосок этого отношения появляется в первом же стихотворении цикла в строке: «я взбиваю подушку мычащим «ты»». Слово здесь становится предметным, вещным, способным взбить подушку, оставить на ней след. Отсюда предварительный вывод: если человек способен произносить слова, значит — он тем самым способен и создавать предметный мир, мир цивилизации, развалин прошлого, свод следов. На уровне логики мотивной взаимосвязи здесь уже закладывается ценностная основа для позиции автора-творца.
Мотив предметности слова появится и в следующем стихотворении («…и чернеет, что твой Седов, «прощай»). Однако там же есть несколько строк, которые этот мотив развивают, указывая на его истоки:
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти. (№ 2)
Слово в приведенном отрывке отчасти приравнивается к природному явлению, которое рождено другим природным явлением — холодом, связанным географически с Севером. Человек посредством слова справляется с холодом, который диктует всему живому условия существования, заставляет человека выживать. Выживать посредством слова, которое уподобляется одновременно герою Седову и ледоколу, названному его именем. Слово («речь»), способное расколоть лед Севера, выдерживает сравнение со «смехом» и «горячим чаем» — его место в жизни человека настолько же естественно.
Однако в финале стихотворения «смех», «речь», «горячий чай», которые «положены» — то есть естественны — «в гортани» лирического героя, заменяются «снегом». Тем самым «речь» — атрибут лирического героя в прошлом — противопоставляется тому, что он произносит теперь, в новых условиях. В частности, «речь» — явление звучащее. «Речь» для лирического героя всегда к кому-то обращена. Однако теперь обратиться не к кому, поэтому «речь» преображается в «снег» — язык. Язык нем, поскольку существует лишь на бумаге, и он не имеет конкретного адресата. Им может быть кто угодно («дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто…», № 1). Так не имеет адресата след.
Невозможность «речи» оборачивается возможностью языка так же, как безысходность личной драмы лирического героя оборачивается вненаходимым опытом автора-творца. Автор-творец предстает как пассивный участник онтологического отношения. Активен язык; автор-творец — орудие, посредством которого язык существует [115] Ср. с известными высказываниями И. Бродского о поэте как «орудии языка» и о «диктате языка» как основном механизме творчества. Впервые, если судить по сборнику интервью с поэтом, эти идеи были сформулированы в 1978 году: «Единственная заслуга писателя — это понять те закономерности, которые находятся в языке. Писатель пишет под диктовку гармонии языка как такового. То, что мы называем голосом музы, на самом деле — диктат языка… Писатель — орудие языка» (Бродский И. Большая книга интервью. М., 2000. С. 54). Эти идеи, которые можно назвать хрестоматийными для творчества Бродского, формируются именно в период и в процессе создания цикла «Часть речи». «Диктат языка» здесь остался непроговоренным напрямую, однако именно в этот период в поэзии Бродского формируется преставление о языке как о самостоятельной активной онтологической силе. См. об этом подробнее Козлов В. Непереводимые годы Бродского. Две страны и два языка в поэзии и прозе И. Бродского 1972–1977 годов / Вопросы литературы. 2005, № 3. С. 155–186.
. Примечательно, что линия отношений поэтического сознания с языком раньше, чем остальные обнажает ценностную позицию автора-творца.
Непрямым уподоблением языка со «снегом» подчеркивается также принадлежность слова миру внешнему. Язык здесь — природное явление [116] Ср. в 1994 году в эссе, посвященном стихотворениям Томаса Гарди, Иосиф Бродский пишет: «…Кто-то (скорее всего, это был я) когда-то сказал, язык — это первый эшелон информации о себе, которое выдает неодушевленное одушевленному. Или, если выразиться точнее, язык — это разбавленный аспект материи» (Сочинения Иосифа Бродского. Т.У1. СПб., 2000. С. 316). Безусловно, нужно учитывать, что к 90-м годам взгляды Бродского на язык оформились в целостную концепцию, тогда как в 1975–1976 годах они только начинали приходить к своему «хрестоматийному» виду. В данном случае речь идет как раз о первом поэтическом варианте одного из основных эстетико-философских тезисов Бродского.
. Если «речь» имеет субъекта, то язык, как и «снег», идет сам.
В третьем стихотворении цикла слово появляется в роли имени, «кайсацкого имени». Имя способно быть ключом к прошлому. Прошлое, стоящее за словом, не только личное, принадлежащее лирическому герою, — прошлое принадлежит и истории страны, которая проглядывает в образной системе третьего стихотворения цикла («татарва», «князь», «стрела», «Орда»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: