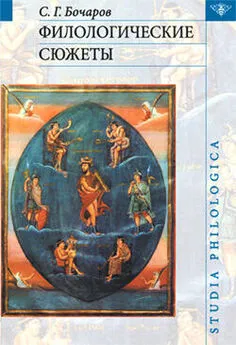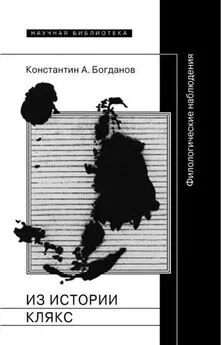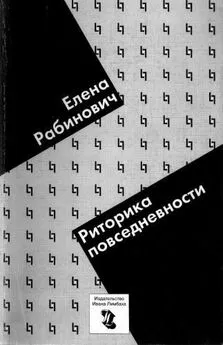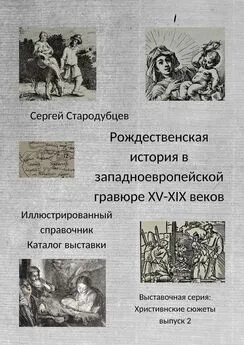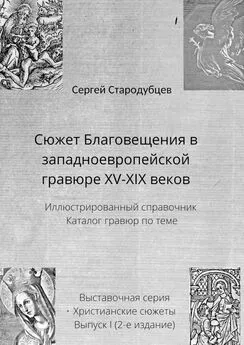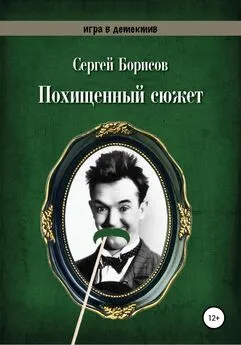Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
- Название:Филологические сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0167-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Бочаров - Филологические сюжеты краткое содержание
Книга служит продолжением предыдущей книги автора – «Сюжеты русской литературы» (1999), и тема её, заявленная в заглавии, формулирует, собственно, ту же задачу с другой стороны, с активной точки зрения филолога. План книги объединяет работы за 40 лет, но наибольшая часть из них написана за последние годы и в прежние книги автора не входила. Тематический спектр широк и пёстр – работы о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Боратынском, Тютчеве, Толстом, Леонтьеве, Фете, Чехове, Ходасевиче, Г. Иванове, Прусте, Битове, Петрушевской, а также о «филологах нашего времени» (название одного из разделов книги) – М. М. Бахтине, Л. Я. Гинзбург, А. В. Михайлове, Ю. Н. Чумакове, А. П. Чудакове, В. Н. Топорове, и статьи общетеоретического характера..
Филологические сюжеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ещё картинка словно из Хармса. Давно опубликованные три строчки в пушкинских планах, на которые до Битова пушкинистика внимания не обратила: «Н. избирает себе в наперсники Невский проспект…» и т. д. Запись странного, никак не развёрнутого сюжета, и как это связано с «Невским проспектом» (датируется примерно синхронно)? Картинка: Гоголь к Пушкину прибежал прямо с Невского проспекта, взволнованный чем—то увиденным там, и мысль о Невском проспекте связала их, и это у них уже тоже общий сюжет (не один «Ревизор»), и Невский проспект стал уже олицетворением, превратился в героя… Ничего нельзя доказать, но надо ведь не замеченную никем запись Пушкина рядом с повестью Гоголя как—то понять, а прежде надо её заметить, открыть, прочитать три строчки эти, а для этого представляемое событие их взволнованной встречи вообразить – и вот не профессионал—пушкинист, а пушкинист—художник делает открытие в пушкинистике. А попутно, разбираясь в не совсем нам понятных отношениях Пушкина с Гоголем, с мифологически знаменитыми подаренными сюжетами, предлагает нашей поэтике понятие обеспеченного сюжета: эти два главных сюжета были для Гоголя благодатно—творчески обеспечены тем, что пришли от Пушкина, отсюда и их такая в истории нашей судьба.
Историк литературы Битов не первый раз уже воображением вмешивается в загадочные отношения прежних творцов. Когда—то он внёс свой вклад (правда, хитро воспользовавшись героем романа, сделав его профессиональным литературоведом) в дальнейшее распутывание—запутывание затеянной ещё в 20–е годы Тыняновым литературоведческой интриги под названием «Пушкин и Тютчев», заметив, что все относящиеся к ней факты, которых мало, это «факты бесспорной спорности», и бросив попутно камень в науку, старающуюся держаться при фактах. Научная работа без фактических ошибок, заметил он, узаконивает нищету понимания. Сам он научной работой не занимается, настаивая, что он не исследователь – однако всюду он в настоящей книге исследователь. Один за другим он строит филологические сюжеты – и вовсе не все они будто из Хармса. Пушкин и Грибоедов – тоже не так много фактов, но образуется сюжет между ними волнующий. Сюжет о творческой зависти Пушкина, исполненный благородства. Пушкин не просто заинтересован – задет явившейся перед ним комедией (1825: пристрастные первые отзывы, но – единственное из современных произведений, с которым приходится внутренне посчитаться); а спустя десять лет окончательное, проникновенное, как памятниковое, последнее слово о Грибоедове («Путешествие в Арзрум», 1835), в котором Пушкин завидует его биографии и героической смерти – а сам подходит уже к порогу собственной. Завидует благородной, возвышенной завистью, той, о которой сам говорил, что она «хорошего роду». «Незримый пласт его жизни», угаданный – сквозь факты – сочувственным воображением. Битов смотрит Пушкину в душу, не вызывая у нас протеста, и получает картину их отношений, о которой мы не вполне догадывались. Картину такую, что место старшего Александра Сергеевича во внутренней жизни младшего изменилось и возросло.
Книга русского писателя о русской литературе, и книга лирическая. Лирическая и стихами Андрея Битова, они здесь также в составе книги. Стихи не отделены от мыслительной ткани книги, они в неё вписаны перемежающим тонким слоем. Мыслительная же ткань есть то самое, чем нам давно и нынче заново интересен автор Битов.
2002
Март 53–го
1–го марта, часов в 10 или 11 утра, я вышел из дома. Дома лежала маленькая дочка, ей было полгода, и я отправился в пункт питания за каким—то положенным ей молочком. В почтовом ящике на двери я не нашёл газеты (тогда ещё их разносили по этажам), что было фактом чрезвычайным и непонятным: каждое утро в 8 газета всегда лежала, это было тогда как часы. Спустившись, я заглянул в киоск рядом с домом, там, как всегда, сидел знакомый киоскёр, старый интеллигентный еврей. – Вы не знаете, почему не пришли газеты? В ответ он поднял на меня взгляд, который я оценил лишь потом. – Говорят, есть важные новости, ответил он значительно как—то. Я ничего не понял и пошёл за молочком, и лишь потом я вспомнил этот взгляд и, как мне кажется, рассмотрел в нём тщательно скрытое торжество. Важные новости прозвучали днём по радио, и мы впервые услышали незнакомое слово «коллапс», которое, помню, произвело тогда жуткое впечатление.
7–го или 8–го рано утром (наверное, 7–го) позвонил Гена Га—чев, он специально приехал из Брянска, где работал по распределению в школе, и мы пошли хоронить вождя. Недавно, уже сейчас, в феврале 2003–го, я был у него в Переделкине, и после лыж за столом, в предвидении наступающей годовщины, мы вспоминали это. Был за столом и Юрий Кублановский, и как старый антисоветчик удивился: – А зачем вы ходили, можете объяснить? Через несколько дней мне тот же вопрос задал внук Митя: – А зачем ты ходил? Тому и другому я отвечал: – Из исторического любопытства, – но чувствовал, что объяснение недостаточное. Всё—таки любопытство чувство мелкое, непочтенное, а тут что—то было такое серьёзное, что надо было это видеть и при этом присутствовать. Об этом сильно – у Германа Плисецкого, поэта, теперь уже покойного, с которым я близко познакомился после, в 60–е. Он был накануне на самом гибельном месте, на Трубной, и еле вышел, а уже в 65–м написал поэму «Труба» – что значит и место действия, Трубная площадь, и та Труба, что поднимет всех на последний суд: Труба, Труба! В день Страшного Суда ты будешь мёртвых созывать сюда… Так вот, у Плисецкого:
В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь, как все,
объём теряю, становлюсь картонным.
Безликая, подобная волне,
стихия поднимается во мне,
сметая милицейские кордоны.
Вот и нас волна—стихия погнала. Но было всё же и что—то более сознательно—подсознательное, что можно было осознать лишь потом. Было чувство, о чём я уже сказал, – чувство, что надо это видеть. Было чувство такой исторической перемены как перемены всей жизни, что не только со мной – со всеми – свершается в первый – и, может быть, единственный раз. Это в воздухе было. Мы с Гачевым только что вышли из университета, 1947–1952 – такие были наши университетские годы, сразу после доклада Жданова и накануне смерти вождя. И было тогда особое чувство того послевоенного восьмилетия, не повторившееся затем никогда; я уже писал об этом однажды, в одной из полумемуарных статей, повторю еще раз. Чувство это не сознавалось ясно, не проходило в светлое поле сознания, но оно реально в нас было. Это было чувство, что никогда ничего другого не будет, всегда будет то, что теперь. Теоретическое знание, что когда—нибудь и смерть Сталина может случиться, было непредставимой абстракцией. Уже гораздо позже можно было осознать, что это был особый опыт переживания вечности. Когда впоследствии я рассказывал об этом чувстве того времени тем, кто помоложе больше, чем на поколение, они говорили, что такое же чувство было у них в брежневские, 70–е, «застойные» годы, и это можно было понять на их месте, но странно слышать, – для нас в 70–е время неслось, и возникало непрерывно что—то новое, все читали Веничку и раздавался из окон трубный (тоже по—своему) голос Высоцкого, самый громкий хриплый голос эпохи, уже не единицы, как раньше, а многие читали и Розанова с Леонтьевым, и даже можно было уже об этом писать и что—то даже немножко печатать, а там и действо под названием «Классика и мы» в 77–м состоялось, и это тоже было событие выразительное как свидетельство, как языки развязались в разные стороны; время неслось стремительно к краху советской вечности в середине 80–х – а задан, заложен был этот крах задолго – в марте 53–го.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: