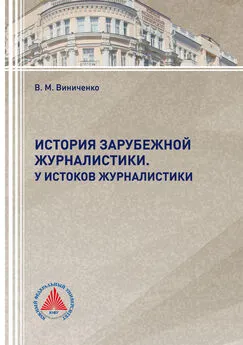Григорий Прутцков - История зарубежной журналистики (1945—2008)
- Название:История зарубежной журналистики (1945—2008)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аспект Пресс
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7567-0493-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Прутцков - История зарубежной журналистики (1945—2008) краткое содержание
В хрестоматию вошли произведения зарубежных журналистов, публицистов и общественно-политических деятелей, оказавшие влияние на развитие журналистики в странах Запада в 1945—2008 гг. Тексты расположены в хронологической последовательности и предваряются кратким очерком о развитии средств массовой информации после Второй мировой войны до наших дней.
Для студентов факультетов и отделений журналистики вузов и всех, кто интересуется историей зарубежной журналистики второй половины XX — начала XXI века.
История зарубежной журналистики (1945—2008) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
<...> Я боялся Валенсы. Меня пугало его умение жонглировать словами, ловкость, с которой он устранял оппонентов. Я боялся его компромиссов и того, как ему нравится вести переговоры с правительством. Я боялся его склонности верить в существование всемирного заговора, в его окружении я видел многих не лучших и случайных людей. Я боялся его ревности к способным людям и того, как он постоянно твердит: «Солидарность» — это я!
Здесь будет уместно открыто признать, что в целом я ошибался относительно Валенсы. Руководитель профсоюза «Солидарность» (NSZZ) оказался достойным своего места. Если не обращать внимания на отдельные ошибки, положение Леха Валенсы в «Солидарности», его настойчивость обеспечили преемственность в «Солидарности». Когда он вернулся работать на верфь, не переставая комментировать происходящее в обществе, он стал зримым символом польского сопротивления, маяком, который из Гданьска периодически посылал всей Польше сигналы веры и надежды. Соединяя настойчивость с умеренностью, Лех получил Нобелевскую премию и положение общепризнанного авторитета, что доказала реакция людей на его речь над могилой священника Ежи Попелюшко.
<...> Таким я вижу Леха Валенсу: человек гениальной интуиции и бесстыдной самовлюбленности, прирожденный политик и самонадеянный автократ, крестный отец польской свободы и ее невольный разрушитель. Никто столько не сделал для польской свободы и никто не растоптал стольких идеалов Польши. Вместе с тем никто так твердо не защищал рыночную экономику и прозападную ориентацию польской внешней политики.
Лех Валенса не хотел и не мог ждать. Может быть, поэтому я все еще думаю о Валенсе со смешанными чувствами: теплотой и отвращением, страхом и восхищением? Он не уважал соратников, он признавал только преданных себе придворных. Он жаждал президентской власти, как наркоман кокаина. Но не личные особенности вождя «Солидарности» вызвали в конечном счете «войну в верхах». Атака Валенсы на правительство Тадеуша Мазовецкого оказалась успешной благодаря всеобщему разочарованию.
Философия правительства Мазовецкого основывалась на политике последовательных, но осторожных реформ, из которых важнейшей частью была трансформация экономики по Бальцеровичу, позднее названная «шоковой терапией». Мазовецкий хотел нейтрализовать все прочие общественные конфликты. Именно в этом был смысл решимости поставить крест на прошлом, дав каждому возможность трудиться на благо демократической Польши, а не тонуть в океане мстительности.
Однако эти разочарования и конфликты были естественным следствием трансформации. Валенса гениально почувствовал и выразил всеобщее разочарование. Разочарованы были активисты «Солидарности», которые надеялись, что их союз станет новой «руководящей силой», назначающей ректоров университетов и директоров заводов, воевод, министров. Разочарованы были работники крупных предприятий, которые полагали, что свобода пришла благодаря их забастовкам, а теперь они оказались лицом к лицу с перспективой безработицы. Разочарованы были католики, которые ожидали, что на смену рухнувшей коммунистической Польше придет время Польши католической. Люди, которых преследовали при диктатуре, чувствовали себя обманутыми, потому что они ожидали вознаграждения, а вместо этого наблюдали, как обогащается коммунистическая номенклатура.
Всякая новая власть хочет, чтобы ее любили, и готова за это платить. Но правительство Мазовецкого опиралось на жесткую экономическую политику Бальцеровича. Теперь видно невооруженным глазом, что нынешнее процветание Польши обусловлено именно этой политикой. Однако в то время проходили демонстрации под лозунгом «Бальцерович — доктор Менгеле польской экономики». Такое разочарование коренится в природе всякой революции: за героическим сражением за свободу следует борьба за власть и доходные должности. Затем, как правило, бывшая диктатура сменяется диктатурой революционного режима. К счастью, в Польше вышло по-иному.
Бальцерович — политик с железной волей, великого и революционного воображения, которого яростно критиковали с самого начала его деятельности. Его обвиняли в бездушном монетаризме, бесчеловечной приверженности к волчьим законам рынка, в появлении безработицы и равнодушии к социальным проблемам, в помощи богатым и в разорении бедных. Однако у Бальцеровича были могущественные союзники: премьер-министр Мазовецкий и Яцек Куронь, министр польской бедноты; была на его стороне и галопирующая инфляция. Благоприятствовало ему и отсутствие альтернативных программ, уверенность в том, что всякая другая политика хуже. Поддерживало его парламентское большинство и большая часть средств массовой информации.
Журналисты «Газеты Выборчей» всегда последовательно поддерживали политику Бальцеровича.
У нас было из-за этого много проблем. Большинство из нас вступили в эпоху свободы с глубоко укорененной верой в необходимость защиты прав рабочих: их достоинства, их прав, их интересов. Идеал освобождения рабочих коренился в социалистической традиции и в энцикликах папы Иоанна Павла II; он был, естественно, противоположен политике Бальцеровича. Вместо самоуправления трудящихся — приватизация. Вместо роста зарплаты — рост цен и затягивание поясов. Вместо социальных гарантий — призрак безработицы. Мы часто спрашивали себя, не предаем ли мы собственные идеалы? Десять лет спустя мы, оглядываясь, твердо отвечаем: нет. Мы не отказались от своей мечты, мы только отвергли наши заблуждения. Здесь и теперь мы полагаем, что не было для Польши иного пути, чем каменистая тропа шоковой терапии Бальцеровича. На этом пути, пускай он и был проторен не без ошибок, отклонений и скандалов, Польша достигла небывалого экономического роста и социального прогресса.
Мы понимаем, что будущее всегда неоднозначно. Жесткая логика рыночной экономики часто сопровождается холодной рыночной жестокостью, бездушной ментальностью бизнеса, ригоризмом технократов и попранием человеческого достоинства. В такие мгновения мы вспоминаем и будем вспоминать, что наша высшая цель — свобода Польши и свобода человека в Польше, создание гражданского общества, в котором каждый имеет право жить достойно. Мы понимаем, что свободный рынок есть обязательная часть пути к этой цели. Но мы отнюдь не считаем, что обогащение одних и обнищание других — это результат божественной справедливости. Напротив. Мы должны контролировать богачей, предоставляя бедным помощь и возможность вырваться из нищеты.
<...> «Газета Выборча» описывала сломленных и несчастных людей языком репортажа, но на языке комментария мы всегда говорили о том, что принимаем сторону реформаторов. Мы понимали, что естественным результатом модернизации является уход в недовольство. Поэтому мы выступали за политику общественного диалога, компромисса и за «Пакт о предпринимательстве», регулирующий отношения между работодателем и рабочими. Мы знали, что где кончается диалог, там начинается разрушение демократических принципов правового государства. Мы не призывали к ужесточению уголовного кодекса, но мы требовали последовательного применения норм права к тем, кто их нарушает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: