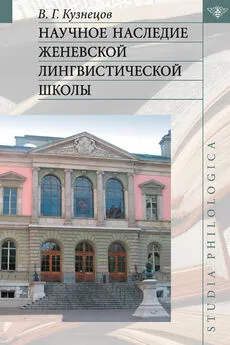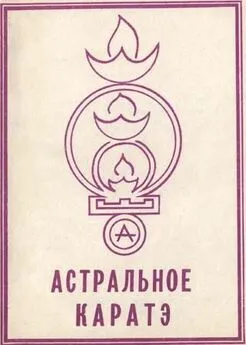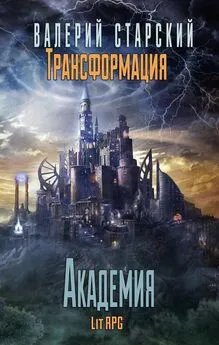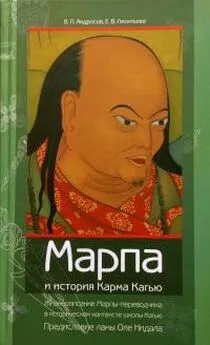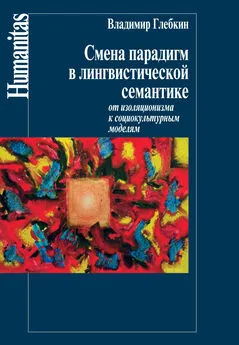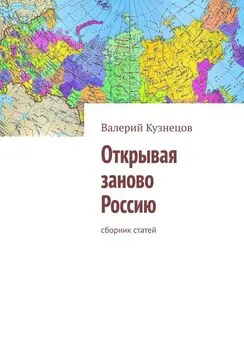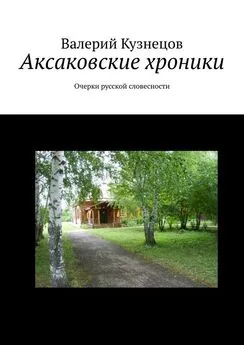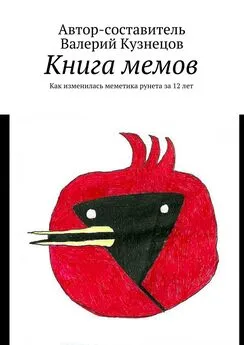Валерий Кузнецов - Научное наследие Женевской лингвистической школы
- Название:Научное наследие Женевской лингвистической школы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Кузнецов - Научное наследие Женевской лингвистической школы краткое содержание
Монография посвящена историографическому анализу с позиций современной лингвистики научного наследия Женевской школы – одного из ведущих направлений языкознания XX века, оказавшего значительное влияние на развитие науки о языке и не утратившему свою значимость. Дается всесторонняя оценка научного наследия Женевской школы, определено ее место в истории языкознания, установлены объединяющие начала, дающие основание признать эту школу самостоятельным научным объединением.
Концепция Женевской школы анализируется не только на основе канонического текста «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, но и с широким привлечением его рукописных источников, архивных материалов, документальных источников.
Вводятся в научный оборот недостаточно представленные в существующих работах составляющие научного наследия Женевской школы – теория языкового знака, грамматическое учение, семиологическая концепция и новый массив данных – соссюрологические исследования, материалы научных фондов.
Ввиду широты проблематики научного наследия Женевской школы оно представляет интерес для специалистов по разным разделам науки о языке: истории и теории языкознания, грамматике и стилистике, лингвистике текста, прагмалингвистике и когнитивной лингвистике.
Научное наследие Женевской лингвистической школы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава IV Язык – человек – общество
«Характерной чертой Женевской лингвистической школы, – подчеркивал А. Сеше, – является внутренняя связь между двумя внешне противоречивыми тенденциями. Согласно первой тенденции лингвистика является наукой, основанной на абстрактных принципах, понимание которых требует значительных усилий и специальных знаний, для второй – характерно стремление поставить науку о языке на службу практическим целям, внедрить ее в школьное преподавание языка и в повседневную жизнь, словом, сделать из нее подлинное орудие культуры» [Sechehaye 1927: 239 – 240].
Постановка и развитие данной темы в Женевской школе обусловлены такими отчетливыми и глубокими традициями французского языкознания, как интерес к истинно человеческому аспекту языка, к его социальной и психологической сущности, а также культурно-языковому строительству, начало которому было положено еще в 30 – 80-х гг. XVI в. известными деятелями Плеяды – Ж. Дюбелле, П. Ронсаром, Р. Этьеном и др.
Подход, который женевские лингвисты развивали к этой теме, воплощает социологическую концепцию языка и вытекает из их пристального внимания к функционированию языка в обществе и стремления поставить достижения лингвистической науки на службу практики. Представители Женевской школы успешно сочетали теоретические исследования с преподавательской практикой. Уместно напомнить, что сам Ф. де Соссюр был замечательным педагогом ([Gauthiot 1966: 87 – 91]).
А. Сеше проявлял живой интерес к деятельности швейцарского педагога А. Ферьера – одного из лидеров так называемого нового воспитания [112] , выступавшего за подготовку в общеобразовательной школе всестороннее развитых людей.
Подчеркивая, что язык, являясь материальной формой выражения сознания, в равной мере необходим для духовной и практической деятельности людей, лингвисты Женевской школы считали умственное развитие и поднятие общей культуры учащихся одной из основных задач преподавания родного и иностранного языков.
§ 1. Движущие факторы языкового развития
В своих работах представители Женевской школы Ш. Балли, A. Сеше и С. Карцевский развивали мысль, что причины и общие закономерности языкового развития тесно связаны с процессом всей жизни того или иного человеческого коллектива.
Одной из движущих сил языкового развития Сеше считал противоречие между формой и содержанием. «Будучи не в состоянии окончательно приспособиться к требованиям жизни, которая непрерывно развивается и обновляется, он (язык. – В. К. ) все время находится в конфликте со спонтанной психологией речи и все время преобразует и перестраивает какую-либо из своих частей» [Sechehaye 1926: 216]. Это высказывание содержит правильную мысль, что «само развитие и совершенствование языка в значительной степени определяется развитием и совершенствованием нашей мысли» [Будагов 1954: 9]. Еще в своей первой работе Сеше связывал прогресс языка с закреплением в нем результатов познавательной деятельности человека: «...прогресс языка становится необходимым условием дальнейшего интеллектуального прогресса. Без прогресса языка все приходилось бы постоянно начинать сначала, и эта эволюция была бы напрочь лишена преемственности» [Сеше 2003а: 207].
Среди причин языковых изменений Сеше выделял антиномию говорящего и слушающего: «...всякий раз, когда человек говорит, чтобы сообщить нечто, или пытается понять сказанное, всегда есть возможность хотя бы для минимальных инноваций. Говорящий может больше или меньше отступать от принятых норм, а слушающий может интуитивно воспринять обновленное средство выражения» [Сеше 1965: 62].
Еще В. Гумбольдт писал, что мысль в уме говорящего и слушающего не может быть вполне тождественной. Отечественный лингвист B. А. Богородицкий придавал этой антиномии столь важное значение, что видел в ней «едва ли не основной фактор прогресса языка». «... главный фактор этого мощного развития языка заключается в стремлении говорящего к тому, чтобы в уме слушающего как можно полнее отразилась та же мысль» [Богородицкий 1964: 297].
С. Карцевский вслед за Ф. де Соссюром [113] трактовал проблему изменяемости языка как сдвиг между означаемым и означающим: «Именно благодаря этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая система может эволюционировать: “адекватная” позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к требованиям конкретной ситуации» [Карцевский 1965: 90]. Карцевский обратил особое внимание на то, что в период таких сдвигов необходимо наличие тождественных моментов либо в семантической, либо в формальной стороне знака (соответственно): «...призванный приспособиться к конкретной ситуации, знак может измениться только частично, и нужно, чтобы благодаря неподвижности другой своей части знак оставался тождественным самому себе» [Там же: 85]. Смещения в структуре языковых планов возникают как неизбежное следствие того, что языковые знаки лишены возможности самостоятельного развития, а эволюционируют только в речи, в рамках высказывания как актуализованной (соотнесенной с ситуацией) единицы языка, в которой синтагматические отношения между означающими и означаемыми автономны и независимы друг от друга.
Внимание С. Карцевского привлекала и роль внешних факторов в развитии языка. В работе «Язык, война и революция» [Карцевский 1923а] он прослеживает влияние социально-политических событий на процессы, происходившие в лексике русского языка в первой четверти ХХ в. Он приходит к выводу, что влияние этих событий следует рассматривать не как революцию в языке, а как значительное ускорение обычных языковых процессов. В статье «Халтура» [Карцевский 1922] он пишет о том, как язык реагирует на изменения в мировоззрении людей. Так, язык отреагировал словом «халтура» на «переосмысление», «шельмование» по всей России высокого понятия «труд». Это слово получило широкое распространение еще и потому, что оно привлекало русского обывателя не только своим значением, но и своей экспрессивностью, которую он связывал со звучанием слова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: