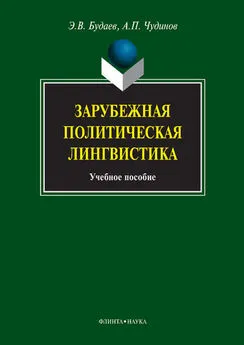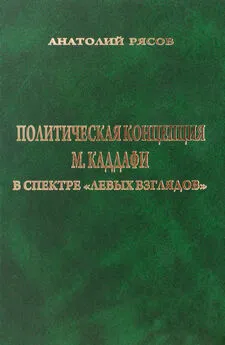Анатолий Чудинов - Зарубежная политическая лингвистика
- Название:Зарубежная политическая лингвистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0104-1, 978-5-02-034775-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Чудинов - Зарубежная политическая лингвистика краткое содержание
В пособии представлено описание зарубежной политической лингвистики – науки, которая возникла на пересечении лингвистики с политологией и занимается изучением политической сферы коммуникации, рассмотрением средств и способов борьбы за политическую власть в процессе коммуникативного воздействия на политическое сознание общества. Рассмотрены особенности развития политической лингвистики в ведущих мегарегионах (Европа, Северная Америка и др.), охарактеризованы взгляды крупнейших зарубежных специалистов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
Зарубежная политическая лингвистика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Паремиологические метафоры презентируют в российском дискурсе Латвию после вступления в ЕС в кардинально измененном облике: ЕС уже догадывается, что пригрел на своей груди маленькую, но очень ядовитую змейку (Огонек, 2004). Проблемная, но маленькая и тихая страна оказалась не только агрессивна по отношению к России, но и не особенно чистоплотна, этакий хамелеончик (Известия, 2005). Латвия, Литва и Эстония, которые в российском дискурсе часто воспринимаются нерасчлененно, представлены в образах политического хамелеона, двурушника, человека с двойным дном, чей Бог – Двуликий Янус.
История показала, что система политических договоров и альянсов способна разрушать представления об этических нормах существования государств. Но нравственная асимметрия, этическая диффузность личности и государства в рамках уже выбраннойсистемы жизни обществом никак не приветствуется. Верность избранному пути, политическую бескомпромиссность демонстрируют центральноевропейские государства. Реализация европейской стратегии дальнейшего развития этих государств осуществляется на основе сознательной рефлексии – постоянного целевого обращения к идее европейского единства. Даже болезненный для малых стран Европы вопрос о Европейской конституции, задевающей их самостоятельность, решается в политической логосфере Центральной Европы с позиций верности «европейской клятве»: Не соглашаться надо сейчас. После принятия Конституции нам ничего другого не останется, как закрыть рот и шагать в ногу (Lid. Nov., 2005).
Очевидно, что балтийский (восточноевопейский) этический абрис не совпадает с центральноевропейс-ким. Он резко контрастирует и с западноевропейским, особенно заметные расхождения наблюдаются в области семантической линии «дающий – берущий» («подающий – просящий»). Не вдаваясь в суть вопроса об «альтруизме» Запада по отношению к остальному европейскому пространству, отмечу, что образ «дающей» Западной Европы в центрально-и восточноевропейских дискурсах представлен как безусловно положительный, ср.: Западная Европа – наша кормилица (Jut. List, 2003). В русском дискурсе этот образ формируется такими метафорами, как страны-финансисты, страны-доноры. Противоположный аксиологический полюс представлен метафорами страны-попрошайки, страны-нищенки.
В связи с необходимостью для государств Западной Европы идти на определенные экономические жертвы – Чтобы Восток догнал, Западу надо притормозить» (Le Monde, 2003) – в российском политическом дискурсе звучат нотки скепсиса и тон сочувствия «старой» Европе: Два миллиона польских крестьян, двадцатипроцентный уровень безработицы в стране, разбитые дороги, музейная стальная и горнодобывающая промышленность – все это делает Польшу крупнейшим «едоком» за европейским столом (Коммерсант, 2004). Потребительское отношение к «дающей» Европе акцентировано и в самих центральноевропейских дискурсах. Так, например, в чешском дискурсе конца 90-х политический выбор в пользу вступления в НАТО был прокомментирован следующим образом: Мы вступаем в союз с Германией, но надо признать, что это брак по расчету (Dnes 2002).
«Экономические» репертуарные позиции европейских регионов маркированы в политических дискурсах соответствующим образом, что же касается политических и нравственных, то они определены не столь четко, ср.: Большая Европа делает вид, что ничего не знаето государствах-мичуринцах, делающих из белых людей негров (неграждан) (Лит. Газ., 2004). Таким образом, этические характеристики государств, метафорически зафиксированные в политических дискурсах, позволяют говорить о неоднозначной атрибутивной типажности Европы. Подобно тому как человеческое сознание полифонично в смысле множественности Я, полифоничен и образ Европы, представленный в диапазоне от «идеального» до «безобразного».
Несостоятельность Латвии (шире – Балтии) в этическом пространстве Европы предопределила одну особенность: в политических дискурсах России и Западной Европы почти отсутствуют прямые эстетические характеристики региона. Два других члена триады (Западная и Центральная Европа) в этом отношении не обделены. В центральноевропейских дискурсах образы бывших социалистических стран представлены в каузально-генетическом русле метафорики. В центральноевропейских дискурсах чрезвычайно продуктивной оказалось метафорическое русло с референцией бала, танца, концерта – того кортежа денотативных дескрипторов, которые ассоциативно связаны в сознании народов Центральной Европы с австро-венгерским периодом их истории. Ср.: На европейский танец приглашены Польша, Чехия, Словения и Венгрия (Lid. Nov., 2002); На европейский паркет выходит красавица Венгрия (Polityka, 2002); Нас объединяют венские вальсы (Dnes, 2002). Политическая ситуация обсуждения западноевропейскими государствами возможности принятия в Евросоюз государств Центральной и Восточной Европы обозначена в словенском дискурсе как «касание Европы блестящим шлейфом еще не вошедших, но претендующих на вхождение в ЕС стран» (Ljubljna, 2001).
Специфические метафорические русла, сложившиеся в центральноевропейских дискурсах, отражают «кровное» и культурно-историческое родство государств. Австро-Венгерский союз, прочно связавший на три века теперешних членов ЕС – Чехию, Венгрию, Словению и Польшу, – создал у этих наций особое ощущение семейного сходства, отсюда частотные номинации центральноевропейских стран в русле «родственной» метафорической парадигмы: красавицы-сестры. Вспомним, что О. Розенштокк-Хюсси секрет Австрии, «интернациональной нации», обозначил как «брак между своими».
Спектр эстетической оценки Западной Европы в русском политическом дискурсе чрезвычайно широк: от безусловного плюса до абсолютного минуса: красавица Европа и зажравшаяся, ленивая, бюргерствующая, равнодушная Европа. Эстетические характеристики Западной Европы в русском политическом дискурсе часто даются через актуализацию негативного образа «проблемных» евроновичков, ср.: Гордая, надменная Европа снизошла до общения с политической деревенщиной (Труд, 2002); Тело бывшей континентальной красавицы располнело и подурнело (Лит. Газ., 2004). Та же семантика эмоционального отторжения теперешнего европейского (конкретней – «евросоюзного») статуса бывших союзных республик прослеживается не только в антропоморфном, но и в других метафорических руслах, ср.: Не всем в Европе пришелся по душе латвийский политический серый горох (Час, 2005); Европейская клумба заросла балтийскими сорняками (Бизнес и Балтия, 2005); Давно ко всему привыкшая Европа в шоке от латвийских националистических игрищ (МК, 2005).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: