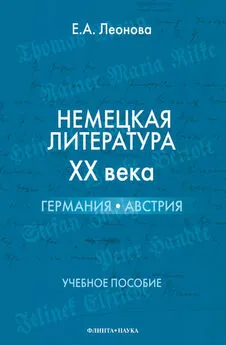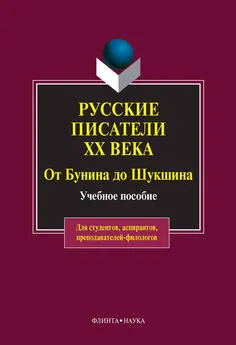Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Название:Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0834-7, 978-5-02-037156-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие краткое содержание
Пособие состоит из двух разделов. Первый содержит характеристики крупнейших явлений в литературах Германии и Австрии на рубеже XIX–XX вв., в 1-й половине XX в. и во 2-й половине XX в. соответственно. Второй раздел включает преимущественно литературные портреты крупнейших немецкоязычных писателей (Г. Гауптмана, Т. Манна, Г. Манна, Р.М. Рильке, Б. Брехта, С. Цвейга, П. Хандке, Э. Елинек и др.).
Для студентов филологических факультетов вузов, а также всех, кто интересуется немецкой литературой.
Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теория и практика (включая и принцип «соответствий») французских символистов явилась безусловным результатом творческой рецепции идей их непосредственного предшественника Бодлера с его известным стихотворением «Соответствия». Оно было воспринято как «основополагающее учение», как «вероисповедание новой поэтической школы»; по словам Вяч. Иванова, Бодлер сумел постичь «реальную тайну природы», основанную на соответствиях и созвучиях того, что непосвященному представляется разъединенным и несогласным.
Закон «соответствий» значил для Бодлера больше, чем эстетический принцип или один из многих художественных приемов. По сути, в нем нашла выражение определенная философия, согласно которой материальное и духовное не автономны, соприкосновения и переклички разных видов искусства свидетельствуют о действии глубинного и универсального закона «всеобщей аналогии», о духовном состоянии эпохи, когда искусства «стремятся если не подменить друг друга, то хотя бы придать друг другу новую мощь». Стоит заметить, однако, что для Бодлера главными оставались пластические образы, звуки же и запахи образовывали для них своеобразный аккомпанемент.
Бодлеровская концепция «соответствий» в свою очередь восходит к романтизму. Посредником между немецкими романтиками и Бодлером был, без сомнения, Рихард Вагнер, чьи музыкальные драмы пользовались во Франции середины XIX в. огромной популярностью. Бодлер и сам признавал существенное влияние на себя Вагнера с его стремлением к созданию Gesammtkunstwerk (универсального, или тотального, произведения искусства), с его призывом «к слиянию художественных энергий в синтетическом искусстве, которое должно вобрать в свой фокус все духовное самоопределение народа…»
Придание символистами большого значения звуку, звучанию закономерно, поскольку многие поэты воспринимали музыкальность как средство воплощения всего разнообразия оттенков проникновенно-интимного, чарующе-трепетного голоса, принадлежащего одному-единственному человеку и идущего из глубин его души, а с его смертью бесследно и безвозвратно исчезающего. Крик птицы, заблудившейся в лесной чаще, повторяется, считал Теофиль Готье, и разбитый Страдивариус может быть воссоздан; не повторяется только человеческий голос. Пожалуй, одни символисты обладали магическим искусством воплощения «голоса души»; вызванные ими к жизни образы не могли не быть музыкальными, ибо именно в музыке дух и сознание максимально сближаются и идеально передают непостижимую тайну сущего.
Однако слово у символистов не только излучает музыку; оно, согласно принципу соответствий, живописует, доносит тончайшие движения в физическом и метафизическом понимании – танец ветра и воспарение мысли, полет снежинок и игру смыслов. Все это не было самоцелью: символисты, вслед за романтиками (Вакенродером, Новалисом и др.), стремились вернуть поэзии сакральную целостность, свойственную древнему искусству, засвидетельствовать слияние пространственного и временного, сознательного и подсознательного, повседневного и бытийно-вечного. В сущности, именно из «синтетических устремлений» (Н. Бердяев) исходили символисты в своих эстетических исканиях, а их художественная практика стала «до конца осуществленным синтезом» (А. Белый).
Необходимо при этом размежевывать проявления этого феномена у романтиков, с одной стороны, и у символистов – с другой. Теми же немецкими романтиками-натурфилософами синтез расценивался как путь к культурному универсуму, в котором произойдет диффузия, взаимопроникновение, слияние пластического, живописного, вербального искусств и, в результате, возникнет общая художественная стихия. Очевидно, романтики сознательно и целенаправленно стремились к синкретизму.
Символизм же – это тоска об утраченном единстве, жажда единства и, одновременно, ясное осознание его невозвратимости. «И затосковал человек в своем творчестве, – писал Н. Бердяев, – по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии». Символистский синтез основывался уже на ином принципе: цели одного искусства достигаются средствами другого искусства. «Романсы без слов» – демонстративно дерзко назовет свою поэтическую книгу Поль Верлен. Информативная функция слова уступает место функции музыкальной, живописной; единство, слияние, универсальность заменяются полифонией. Не случайно символизм в художественной практике французских, немецких и других поэтов очень часто соединяется с импрессионизмом.
Ж. Мореас (изобретатель термина «символизм») предложил следующее развернутое определение символистской поэзии: это «враг поучений, риторики, ложной чувствительности и объективных описаний; она стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма – не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под ее власти… Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые отражения перво-Идей, указующие на свое тайное сродство с ними». «Символистскому синтезу, – считал Ж. Мореас, – должен соответствовать особый, первозданно-всеохватный стиль»: использование старинной метрики, александрийский стих, чередование рифмы четкой с зыбко-невнятной, многозначительные повторы, умолчания, непривычные словообразования, обращение к верлибру (фр. vers libre; термин «верлибр» ввел в обиход поэт-символист Гюстав Кан) и др.
В начале 1890-х годов символизм во Франции еще остается популярным и влиятельным, но все ощутимее размывается другими художественными явлениями, все менее отчетливы его границы; после смерти признанного мэтра символистов Стефана Малларме в 1898 г. символистское движение окончательно распалось. Конец 90-х годов XIX – начало XX в. во французской литературе принято определять уже как период постсимволизма, отмеченный, с одной стороны, крайностями эпигонства, с другой – поисками выхода за пределы давно устоявшейся эстетики.
Зато новое дыхание символизм обретает в других национальных литературах, в разной степени воплотившись в бельгийской (Эмиль Верхарн, Морис Метерлинк), австрийской (Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке), немецкой (Стефан Георге, Герхарт Гауптман), норвежской (Генрик Ибсен), русской (Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Владимир Соловьев, Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин), белорусской (Максим Богданович, ранний Янка Купала) и др.
1. Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М., 1966.
2. Аверинцев С.С. Символ // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
Импрессионизм
Интервал:
Закладка: