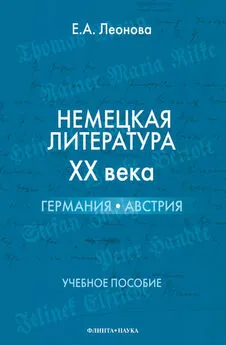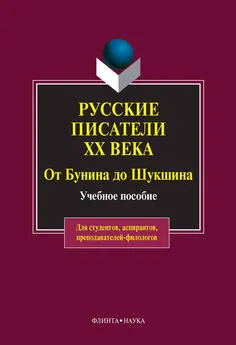Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Название:Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0834-7, 978-5-02-037156-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ева Леонова - Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие краткое содержание
Пособие состоит из двух разделов. Первый содержит характеристики крупнейших явлений в литературах Германии и Австрии на рубеже XIX–XX вв., в 1-й половине XX в. и во 2-й половине XX в. соответственно. Второй раздел включает преимущественно литературные портреты крупнейших немецкоязычных писателей (Г. Гауптмана, Т. Манна, Г. Манна, Р.М. Рильке, Б. Брехта, С. Цвейга, П. Хандке, Э. Елинек и др.).
Для студентов филологических факультетов вузов, а также всех, кто интересуется немецкой литературой.
Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из Европы судьба забросила Зоргера «на другой конец земли», на Крайний Север, где поздней осенью, на закате дня и происходит наше с ним знакомство. Так ситуация отчужденности, изолированности закрепляется еще и символически, посредством топоса и гаммы переживаемых природой и передающихся человеку ощущений холода и увядания. Впрочем, дом имеется у Зоргера и здесь, но это всего лишь временное пристанище, которое он делит с коллегой. Характерно, что в сознании героя образ этого дома неизменно сопровождается уточнением («дом с высокой крышей»); постоянный, свой во всех отношениях дом, пока только воображаемый и в этой своей ипостаси побуждающий Зоргера к поиску, вызывающий «жажду бытия и ответственности», «потребность в исцелении», вряд ли нуждался бы в напоминании о чисто внешних приметах.
Бездомье – это бесформенность; обретение своего дома, своего места, укорененность, напротив, предполагают оформленность. В философско-эстетической стихии романа проблема поиска форм занимает чрезвычайно важное место и решается не только в мировоззренческом, но и в событийно-фабульном планах: профессиональная деятельность Зоргера протекает «в поле», «на местности» и подразумевает поиск форм ландшафтных, природных. При этом отношение героя к ландшафту отмечено математически точным расчетом, фиксацией таких слагаемых, как расстояние, угол наклона, материал, центр, углубления, «верхняя граница верхнего поля зрения», «параметры света и ветра, показатели широты и долготы, положение небесных тел» и т. д. Подобная детализация ландшафтных форм, обостренное внимание к мельчайшим фактическим подробностям с учетом рода занятий Зоргера совершенно естественны.
С другой стороны, и это принципиально важно, сам герой сознает, что вся эта математика обусловлена его внутренней потребностью в чувстве данного места, в чувстве своего действительного в нем пребывания и вовсе не случайно появилась «с тех пор как он стал жить почти что всегда один». Собственно, это возможность лишний раз удостовериться, что на сей раз почва не уплывет из-под ног. Очевидно, ландшафт, природа до поры до времени замещает Зоргеру дом, в отсутствие последнего в буквальном понимании, и замещает не только в северной глухомани, где только ландшафтные формы и могут остановить на себе человеческий взор, но, что важно, и потом, в городе, – месте, хорошо знакомом герою по нескольким годам прежней жизни, но все-таки не своем, не являющемся конечной точкой его пути, целью его «медленного возвращения». Повествователь не преминет поддержать и утвердить читателя в этой догадке, заметив, что «Зоргеру была нужна природа, но не только как чистое, природное пространство… так появлялись ориентация и жизненно необходимое пространство для дыхания (и тем самым уверенность в себе), одно вытекало из другого».
Понятия «пространство», «форма», «место» – из ряда наиболее часто используемых в романе; в природное пространство и его формы герой «вживается», их «призывает на помощь», «цитирует», в них видит предвестников будущих событий – «событий, которые еще только предстоит выдумать». Всякие новые пространства, будь то обозримо-монотонные или необычайно живописные, вызывают у него ощущение уже знакомых, обыкновенных и в то же время чужих, заставляют «терять равновесие», испытывать в довершение ко всему мучительное чувство вины, что и «здесь ты не на своем месте», чувство не только уже переживаемой, но и грядущей «пустоты» во всей ее угрожающей полноте и неодолимости. Вновь и вновь повествователь соотносит применительно к Зоргеру природу с домом, манящим гармонией и обещающим надежность: «…уже много лет бесприютный и не имеющий, стало быть, возможности… укрыться в своих собственных четырех стенах, он воспринимал каждое место здесь и сейчас как свой единственный шанс», как возможность собрать воедино, «укрыть» и прежние, прошлые пространства, и настоящие, «только что завоеванные». В результате поиска некоего «личного пространства», личной обители складывается глубоко философское восприятие мира, убежденность в том, «что эта земная планета бесконечно цивилизованная и какая-то удивительно родная».
И отношения с природой у Зоргера совершенно особые, в своем роде интимные. Однообразная на первый взгляд поверхность земли предстает перед ним в событийной динамике, во всей неисчерпаемости проявлений, тревожащих, будоражащих сознание и душу, взывающих об имени, «напоминающих человеческий мир (или предвосхищающих его)». К месту, в котором Зоргер работал последние месяцы, он испытывает глубокую благодарность и восторг, какие можно испытывать именно к дому. Ландшафт в представлении героя «обживается», наполняется «предметами», подобно тому как это происходит со «своим» домом и со «своим» городом – «с колоннами, воротами, лестницами, церковными кафедрами и башнями, со всевозможными чашками, плошками, мисками, поварешками, жертвенными котлами» (курсив автора. – Е.Л.).
Таким образом, герой совершает побег в природу от мира людей, а она его этому миру возвращает, солидаризирует с ним. Характерно, что названиям мест, сложившимся в период золотой лихорадки и напоминающим о чужих поражениях и разочарованиях либо ассоциирующимся с корыстью («Озеро Фиаско», «Полудолларовый ручей» и т. п.), он предпочитает романтические, исконно индейские наименования – «совершенные образцы для подражания» вроде «Больших Сумасшедших гор» или «Большого Неизвестного ручья». Любовь к лесу, реке, земле помогает Зоргеру почувствовать себя «среди нации», понять «свою собственную историю», поверить в возможность ее продолжения, рождает в нем надежду и радостное желание поделиться этим неожиданно обнаружившимся богатством, которое еще только предчувствуется, но уже переживается и путь к которому уже начат и еще только начат.
Из всех природных стихий наибольшее внимание героя приковывает к себе вода. Концепт «вода» весьма важен в романе: стихия воды задает тон повествованию, образуя атмосферу движения, динамики, перемещения. В «область безраздельного господства воды» читатель попадает с первых же страниц романа. Вода заполняет пространство «до самого горизонта», льется и извивается, струится и бьется, то тихо журчит, то гремит в бешеных водоворотах. Зоргер познает эту «большую воду, ее течение, ее кружение, ее стремительный бег», законы, в соответствии с которыми ее разрушительная работа оборачивается «доброй внутренней силой». Водное течение Зоргер не только легко представляет, но и способен – как часть своего места в мире – «прочувствовать»; он его многообразно нюансирует, замечает в нем малейшие процессы, завораживающие и «бурлескные», волнующие и развлекающие. В часы расставания поверхность реки открывает ему свой поистине человеческий, живой и одухотворенный облик, свое непрерывно меняющееся, «незабываемое удивительное лицо».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: