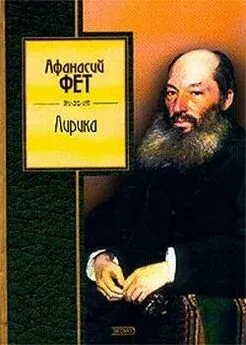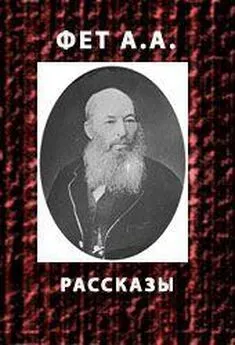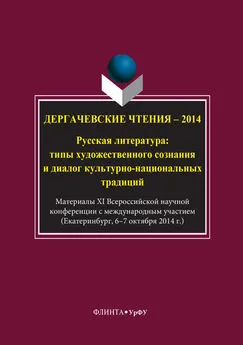Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Известно, что суфийская средневековая поэзия, например, в лице персидского поэта Джалаледдина Руми (1207–1273), разработала целую систему символики тоже в аллегорической поэзии о любви с целью постижения человеком Истины. Возможность стать «совершенным человеком» (через состояние экстаза достичь «фана», раствориться в Боге), по философии суфизма, заложена в каждом человеке, поскольку совершенный человек появляется не по указанию Бога, а как проявление необходимости в вечном движении мироздания, которое и есть Бог. Любопытно заметить, что Шопенгауэр, называя суфизм «прекрасным явлением», подчеркивает, что оно «по своему источнику и духу безусловно индусское и насчитывает теперь уже больше тысячи лет» [6: 151].
Таким образом, два культурных явления (одно под влиянием буддийской философии, другое – суфийской философии) имели нечто общее в понимании путей к нравственному совершенству человека: состояние «нирваны» в первом случае и состояние «фана» – во втором. В обеих литературах взаимоотношение человеческой души и высшего начала дается в форме любовной поэзии, в форме диалога «Я и Ты».
Контекст нашего исследования обязывает нас увидеть, что шопенгауэровское «чистое созерцание» идеи «чистого субъекта» познания (возможное только в искусстве) перекликается с учением Ибн Араби об интуитивном созерцании (мушахада), благодаря чему, по мнению философа, и возможно выстраивание эстетических философем, т.е. системы образного философского знания. Творчество, по логике Ибн Араби, предполагает умение «увидеть» образ прежде, чем воплотить его в жизнь. Воображение абстрагирует образы, возникающие при чувственном восприятии, прежде чем передать их разуму. Человек, согласно Ибн Араби, с помощью разума, интуиции, воображения приближается к Истине [8].
Рассмотрим художественно-эстетическую суть поэтического концепта Фета «Я – Ты», когда «Ты» становится объектом чистого созерцания шопенгауэровского типа. С целью интерпретации того, что такое воображение, фантазия в концепте «Я – Ты» Фета возьмем достаточно раннее его стихотворение « Забудь меня, безумец исступленный ...» (1855):
Забудь меня, безумец исступленный,
Покоя не губи.
Я создана душой твоей влюбленной,
Ты призрак не люби!
В концепте «Я – Ты» – обращение, если говорить на языке Шопенгауэра, «чистого субъекта», который становится объектом чистого созерцания, к тому, кто испытывает блаженство безвольного созерцания. И этот «безвольный созерцатель», кто в процессе фантазии, предчувствия прекрасного, полностью освобождаясь от своего «Я», созерцает «чистый субъект» – идею Любви, и называется «безумцем исступленным».
Во второй строфе ищущий идею Любви, «мечту свою воздушную» называется «мечтателем малодушным». «Предмет» созерцания поэта преподносит мораль:
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.
В преподнесенной сентенции – вечная тайна творчества, в которой выражение «двойного бытия» души, которая реализуется в фантазии, творчестве – с одной стороны, с другой – в земном «Я» человека. Поэзия романтизма, позже символизма (Фета многие и называли поэтом предсимволизма) и разработала художественное выражение этой концепции.
Стихотворение « Прежние звуки, с былым обаяньем ...» (1862) перекликается с предыдущим: в нем тоже о безвольном созерцании «чистого субъекта». Созерцание характеризуется в темпоральном выражении: события прошлого определили предмет «чистого субъекта», память прошлого уводит в мир воображения, достигая тем самым освобождения от страдающей самости.
Первые же две строчки («Прежние звуки, с былым обаяньем / Счастья и юной любви!») определяют основную мысль стихотворения: прошлое – это то, чем жил и живет лирический герой, в нем сформировался образ «чистого субъекта». Прошлое прежде всего в звуковом наполнении становится фактическим условием фантазии-воображения. Однако отправной точкой в интенции авторской мысли является настоящее время, экзистенциально определенное: «Все, что сказалося в жизни страданьем, / Пламенем жгучим пахнуло в крови!» Таким образом, в первой же строфе определяется контраст между настоящим со страдающей самостью лирического героя и прошлым (памятью), в котором воспоминание минувшего проносится, как счастье. Память-воображение, естественно, возвращает одно желанное, а не индивидуально-субъективное, фактическое того времени, что осознается лирическим героем, и потому воображение («старые песни») и называется «сном безотвязно больным». Однако душа, вопреки страданиям самости в настоящем («Пусть обливается жгучею кровью / Сердце, а очи слезой!»), жаждет этого воображения-фантазии, поскольку только в нем, в памяти-воображении, она сможет отбросить страдания, стать «чистым субъектом познания», слиться с предметом «чистого субъекта»: «Пой! Не смущайся! Пусть время былое / Яркой зарей расцветет!» Однако это состояние – осознанная игра-воображение лирического героя, продолжающего оставаться в настоящем времени, полном страданий: «Может быть, сердце утихнет больное / И, как дитя в колыбели, уснет».
В стихотворении Фета « Я был опять в саду твоем... » (1857) образ аллеи («И увела меня аллея») становится отправной точкой в интенциональном акте воспоминания, в котором лирический герой оказывается ведомым миром, в котором были «Я» и «Ты», были «Мы» («Туда, где мы весной вдвоем»). Стихотворение начинается с определения мира лирического героя – «Я был» с экзистенциальной функцией глагола «быть» в настоящем времени в отличие от функции связочного «есть». Употребление экзистенциального «был» (быть) становится принципиально важным содержанием высказывания – ремой становится бытийный глагол, в нем смысловой центр всего поэтического высказывания.
Функция связочного «есть» предполагает предикативность бытия (Я есть...), определяет отношение «Я – Оно» – мир как опыт, поскольку жизнь человеческого существа не ограничена областью переходных глаголов; она не сводится лишь к такой деятельности, которая имеет нечто своим объектом: Я нечто воспринимаю, Я нечто ощущаю, Я нечто желаю и т.д. Экзистенциальное «был» создает отношение «Я – Ты», в котором он (лирический герой) есть «Ты» и потому все пространство мира заполнено им, все живет в его свете: «Как сердце робкое влекло / Излить надежду, страх и пени...» Однако фетовское «я был» дается и во временном концепте «был – теперь», который делит стихотворение на две части с двумя смысловыми концептами: в первой – концепт «возможности счастья», во второй – концепт «невозможности счастья» («Напрасно взор кого-то ищет»). Концепт «Я – Ты» разрушен, хотя время «теперь» определяется как абсолютно гармоничное: «Теперь и тень в саду темна, / И трав сильней благоуханье; / Зато какая тишина, / Какое томное молчанье!» И вместе с тем это «теперь» не может стать счастливым временем, поскольку нет «Ты» («Напрасно взор кого-то ищет»). Концепт «невозможности счастья» художественно решается через образ одинокого соловья («Один зарею соловей, / Таясь во мраке, робко свищет...»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: