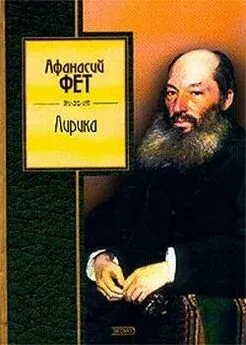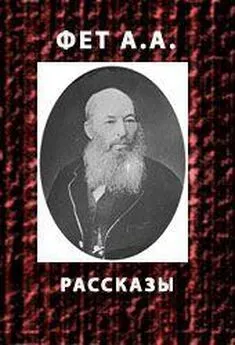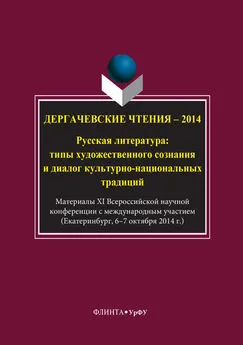Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Веер парадигматических определений-валентностей выражен в лирике Фета целым рядом символических образов (парный образ соловья и розы, образ ветерка, тени), мотивов (мотив опьянения, мотив любви), образным языком параллелизма, кумуляции. Все это – формы проявления синкретизма, который был характерен для средневековой арабской, персидской поэзии, в частности, для Хафиза и через него был интуитивно воспринят и освоен творческим сознанием Фетом.
Вся лирика Фета является выражением переживания сокровенного, полноты Бытия, высшего мига сопричастности Целому. Неразделенность субъекта-объекта в сопереживаниях определяет вхождение в прямое общение с Целым, благодаря чему происходит переосмысление художественного принципа метафоры, формируется новое осмысление системы тропов. Так, символические образы в творческом сознании Фета становятся метафорами, тяготеющими к прямому (конкретному) значению. Образуется «реализованный троп, опирающийся на сочетаемость слова в его прямом значении» (Н.А. Кожевникова).
Таким образом, обращение Фета к творчеству Хафиза образует в русском романтизме ХIХ в. то «резонансное пространство», в котором диалог «Фет – Хафиз» выводит на глобальную проблему синтеза культурных традиций Востока и Запада в пространстве художественного творчества. Проблема эта, занимавшая умы человечества на протяжении, как минимум, двух последних веков, продолжает оставаться актуальнейшей. Хочется верить, что современные методологические искания будут способствовать более активному решению данной проблемы.
Примечания
1
Центральное купольное сооружение, в котором, по мнению Шпенглера, магическое мирочувствование, магическая душа арабской культуры, достигло своего выражения и получило развитие по ту сторону римской границы. Для несторианцев оно стало единственной формой, распространяемой ими с манихеями и маздаистами от Армении вплоть до Китая. Форма эта триумфально проникает и в базилику Запада. В Южной Франции, где еще во время крестовых походов существовали манихейские секты, форма, пришедшая с Востока, прошла полную акклиматизацию. Купольная базилика распространялась из Византии и Армении в сторону России. Заключая свои рассуждения, Шпенглер пишет: «Множество мотивов, принятых Ренессансом за античные, как-то крытый двор и сочетание арки с колонной, берут свое начало именно оттуда» (С. 381). Сказанное об архитектуре Шпенглер демонстрирует и на примере орнаментики, которая в соблазнительно прелестном виде предстала юной художественной воле Запада как искусство арабески. «Фаустовская душа готики, уже самим арабским происхождением христианства ведомая по пути своего благоговения, ухватилась за богатую сокровищницу позднеарабского искусства. Арабесочный узор, – утверждает Шпенглер, – опутывает фасады кафедральных соборов Бургундии и Прованса, обуздывает магией камня Страсбургского Мюнстера и повсюду, в статуях и порталах, в узорах тканей, резной работе, металлических изделиях, не в последнюю очередь в кудреватых фигурах схоластического мышления и в одном из высочайших западных символов, в легенде о святом Граале, ведет скрытую борьбу с северным прачувством викингской готики» (Шпенглер О. Закат Европы: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 383–384).
2
А.Р. Никл в книге «Испано-арабская поэзия и ее связи с поэзией старых провансальских трубадуров» стремится документально доказать влияние арабо-испанской поэзии на провансальскую поэзию XI–XIII вв. (ученый анализирует творчество Гильома IX Аквитанского, Маркабрюна, Рюделя). А.Р. Никл обращает внимание на факты, которые позволяют сделать вывод о знакомстве первых провансальских трубадуров с арабской поэзией. Он истолковывает близость поэзии провансальских трубадуров и арабо-испанской поэзии как «подражание» и «заимствование» первой у второй.
Контактные связи подробно анализируются и в работе Р. Менедеса Пидаля «Арабская поэзия и поэзия европейская» (первая редакция – 1938 г.). Пидаль приводит «неопровержимые данные о распространенности и популярности мавританско-андалусской песни задолго до путешествия Гильома IX в Сирию» (Куделин А.Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая система» (гипотеза Х. Риберы в свете последних открытий) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974. С. 379–414, 381–382). Р. Менендес Пидаль приводит и иные доказательства того, что «испано-мавританская песня была известна» во Франции. Отказ многих ученых признать влияние арабско-андалусской песни на провансальскую лирику Р. Менендес Пидаль рассматривает как следствие «ложного убеждения, что между христианской и мусульманской культурами не было никакого духовного взаимодействия» (там же. С. 382) .
Противники «арабской гипотезы» считают, что знакомство европейцев с арабо-испанской поэзией еще не является строгим доказательством ее влияния на провансальскую лирику. Гипотеза Х. Риберы вносила существенно новый элемент в освещение механизма контактных связей – устойчивый билингвизм носителей арабо-испанской поэзии. Свои взгляды на проблему Х. Рибера впервые изложил в 1912 г. Образец «смешанной поэтической системы» Х. Рибера видит в произведениях известного поэта Андалусии Ибн Кузмана (ок. 1080–1160). Ученый отмечает переплетение двух языков (арабского и романского) в поэзии Ибн Кузмана, находит отличия его стихотворений от арабской классики. Наряду с этим Х. Рибера отнюдь не отрицает родства поэм (заджалов) Ибн Кузмана с арабской традиционной лирикой. Анализ творчества Ибн Кузмана позволяет Х. Рибере сделать вывод о гибридности заджальной формы.
Х. Рибера подчеркивает, что смешанная арабо-романская народная поэзия существовала уже в конце IX в., т.е. намного раньше появления в Провансе первого трубадура. Таким образом, исходя из этого обстоятельства, Х. Рибера считает возможным объяснить происхождение поэзии трубадуров андалусским влиянием. Х. Рибера, противник «арабской гипотезы», вынужден признать, что «близкое сходство между обеими лириками – андалусской и провансальской, большая древность первой при наличии несомненной связи между обеими заставляют сделать вывод о том, что андалусская является моделью для провансальской, а значит, и всех европейских более поздней даты. Так как андалусская, с другой стороны, распространилась по всему мусульманскому миру – через Северную Африку на восток, то диван Ибн Кузмана, отражающий эту андалусскую лирику, является тем ключом, который объясняет механизм всех лирических систем культурного Средиземноморья» (там же. С. 388).
3
Согласно гетевскому мифу, в Люцифере олицетворено стремление к первоначальной внутренней разобщенности, разъединению единого, эгоцентризму, стремлению концентрировать все в себе самом, в «самости». В «Поэзии и правде» Гете пишет: «Поскольку же все зло <...> пошло от Люциферовой односторонности, то вполне понятно, что сотворенному им бытию недоставало лучшей его половины: ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение. Таким образом, довершенное Люцифером творение, пребывая в извечной концентрации, само размололо и уничтожило бы себя вместе с отцом своим Люцифером и посему уже не могло бы посягать на вечность, равную божественной». Уничтожив зло, Элохимы в «силу своей бесконечности» устранили сей изъян мироздания. «Они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку. Необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем светом, и началось то, что мы привыкли обозначать словом “творение”. <...> Все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того – ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен и ограничен. <...> Прошло немного времени, и он в точности сыграл роль Люцифера. Покинуть своего благодетеля – высшая форма неблагодарности, и это вторичное отпадение возымело столь же великие последствия, ибо весь сотворенный мир был и есть не что иное, как вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку» (перевод Наталии Ман) (Гете И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969. С. 267–268).
Интервал:
Закладка: