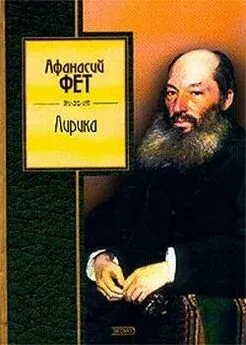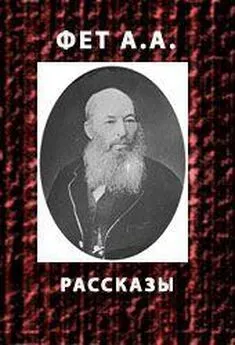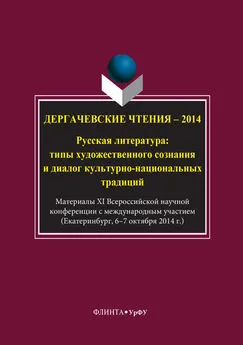Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Используя суфийский парный образ «мотылек – свеча» Гете и выражает на языке поэзии это «вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку». В «Западно-восточном диване», в знаменитом «Блаженном томлении», воспринимающемся как переосмысление газели Хафиза, образ мотылька, летящего на огонь и в нем сгорающего, дается как олицетворение устремленности к свету, истине, что является «сопряженьем в высшем браке», который есть смерть и одновременно возрождение:
Речь моя – к одним лишь мудрым,
Чернь – она начнет глумиться!
Жизнь я славлю, что упорно
К смерти огненной стремится.
В ночь любви, в какую сам ты
Жизнь принял и жизни сеял,
Чувство странное нисходит,
Лишь огонь вдали зардеет,
С тенью ты уж не миришься,
Жить не можешь ты во мраке,
Ты стремишься упоенно
К сопряженью в высшем браке,
Мчишься, словно кем гонимый,
Путь не кажется далек,
Миг – и вот, до света жадный,
Ты сгораешь, мотылек!
Если ж зов: «умри и стань!»
Спит в душе смиренной,
Ты лишь горестный пришелец
В сумрачной Вселенной.
(Перевод В.В. Вересаева)
«Блаженное стремление» живого к смерти вписывается Гете в принцип «умри и возродись», который и объясняет извечный закон мироздания: «вечное отпадение и вечный возврат к первоистоку». «Блаженное стремление» живого к смерти есть стремление личности к совершенствованию собственного «Я»: через преодоление самости возврат к первоистоку, к единению с природой-богом в субъект-объектной неразделенности. В смерти Гете слышит голос жизни – утверждающей природы.
Как пишет Л.М. Кессель, «Гетевская концепция смерти пронизана духом гуманизма. Смерть – умножение жизни, ее обогащение, разрушение для творения. Она подобна «водопаду, разливающемуся на тысячи потоков». Он приводит слова Гете о смерти как «приеме природы, чтобы иметь много жизней», ибо «повсюду вечность шевелится»; в природе нет ничего «в готовом виде и налицо», ибо все творится» [13: 62].
Исследуя лирику Гете в контексте восточной философии, Л.М. Тетруашвили излагает точку зрения суфизма на человека, который в страстном стремлении к богу достигает определенного совершенства, осуществляя при этом принцип «высшего соединения» – слияния человека с Богом. Так, он пишет: «Для достижения высшей цели познающий должен пройти четыре ступени: овладение учением мудрецов и критическое отношение к нему, признание бога и мира соравными; настойчивое и страстное стремление к совершенству, т.е. в конечном счете к богу, полное возвышение человеческих сил для служения этой цели; поглощение своей индивидуальности “всеобщим”, всеобъемлющее познание совершенного в сверхчувственном (космическом) экстазе; приобщение к истине. На этой последней ступени познающий становится соравным богу и сливается с ним, т.е. “умирает”» [16: 61]. Суфий на пути к истине-богу должен пройти две ступени: уничтожение (фана) и возрождение (бака). Как сказал еще Е.Э. Бертельс, «ощутив уничтожение своего временного преходящего “я”, человек погружается в море абсолюта, а тем самым и ощущает отчетливо, что существует так же вечно, как вечна и божественная сущность. Это осознание бессмертия, понятно, высшее из состояний, достижимых для путника» [17: 65]. Присутствие логического следствия бака (вечность) отличает состояние фана от буддийской нирваны.
Л.М. Кессель, сравнивая-сопоставляя «Блаженное томление» Гете с переосмысленной им газелью Хафиза «Как свеча горит душа» в переводе Гаммера, находит, что тема «огненной смерти» у Хафиза полна суфийского мистицизма, «который устремлен к исчезновению своего “я” в едином и увековечению в бесконечном неземном». Ученый считает, что Гете же «возвращает этот образ на землю», реализуется мотив любви самоисчезновения в любимом деле, идее по формуле «умри и возродись» [13: 65]. Вместе с тем формула «умри и возродись», восходящая к космологическому мифу Гете, содержит философию жизни, в основе которой извечный закон мироздания в «вечном отпадении и вечном возврате к первоистоку».
Своеобразный «эротический пантеизм» в рамках диалога «Я– Ты» характерен как молодому, так и позднему Гете. Так, в стихотворении «Вездесущий» («Западно-восточный диван») божество юных лет обретает конкретность в лице любимой – Зулейки, которая предстает влюбленному в тысяче образов:
В тысяче форм ты можешь притаиться, –
Я, Вселюбимая, прозрю тебя,
Иль под волшебным покрывалом скрыться, –
Всевездесущая, прозрю тебя.
Эти строчки напоминают стихотворения молодого Гете, где бог является, как отмечает Л.М. Тетруашвили, «в конкретных образах то весны, то старого ласкового Океана, в сладком пении соловья, в спускающихся с небес облаках» [16: 62].
«Вселюбимая» лирического героя Гете в диалоге «Я – Ты» становится олицетворением неодолимого стремления к созерцанию-познанию Красоты мира-жизни, ее гармонии, в основе которой закон «вечного отпадения и вечного возврата к первоистоку» («В тысяче форм ты можешь притаиться...»). Гете заимствует не только символическую образную систему суфизма, но и, что важнее, основную пантеистическую идею философии суфизма, по которой каждая форма бытия – так или иначе отражение абсолюта, следовательно, «единое бытие можно найти в каждой пылинке». По философии Ибн Араби, бог – высшая реальность, абсолютное совершенство, из которого истекают, эманируют, но в котором «утоплены все существующие реальности» [8].
Концепт «Я – Ты» в фетовском переводе Хафиза – в стихотворении « О, если бы озером был я ночным... » – реализуется через парные образы («роза – куст», «зерно – птичка», «озеро – луна», «поток – былинка»), которые выражают, с одной стороны, эманацию из высшей реальности всего сущего в мире, а с другой, в них – универсальная любовь к божеству-возлюбленной, блаженное самоотвержение ради этой любви.
В контексте сказанного необходимо отметить еще одно обстоятельство: в приведенных шедеврах своеобразного «эротического пантеизма» не только Гете, но и Хафиза в переводе Фета «перемешано» высказываемое в адрес Бога и любимой. И именно эта черта придает им характер романтической лирики, в которой содержится и любовное томление, и томление по идеалу Красоты, то «чистое созерцание Красоты», дающее понимание и жизни и творчества. Свойство это было привлекательным не только для романтизма, но и для поэзии следующего века, прежде всего символизма.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 2. М., 1969.
2. Куделин А.Б. Арабо-испанская строфика как «смешанная поэтическая система» (гипотеза Х. Риберы в свете последних открытий) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 379–414.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: