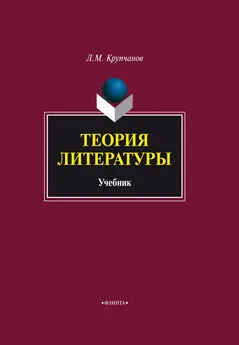Леонид Крупчанов - Теория литературы
- Название:Теория литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2012
- Город:М.:
- ISBN:978-5-9765-1315-0,978-5-02-037729-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Крупчанов - Теория литературы краткое содержание
Содержание учебника определяется спецификой предмета – художественной литературы – как особого вида творческой деятельности. В учебнике дается толкование основных литературоведческих категорий и понятий, раскрываются вопросы нравственного, общественного значения литературы, ее специфики и эстетических свойств, приводятся материалы новейших достижений отечественных и зарубежных ученых, рассматриваются способы системного анализа литературного произведения на основе диалектического соотношения категорий формы и содержания.
Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов.
Теория литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как видно, сюжет не элемент композиции: у него свои функции в произведении.
Категория сюжета также доставляет сложности для художников. Известно, как «мучился» над соединением двух сюжетных линий Л. Толстой в «Анне Карениной»: это линия интимная (Анна – Вронский) и линия, на которую нанизаны нравственные, философские, экономические проблемы (Кити – Левин). Толстому долго не удавалось их объединить. И когда он достиг такого соединения, он успокоился. Это тонкое соединение – встреча четырех персонажей, решающий эпизод для завершения произведения как целого.
И в то же время при анализе сюжета и композиции используется повторное упоминание одних и тех же сцен и элементов. Это не ошибка. Все дело в том, что по строению сюжет отличается от композиции, по материалу – нет. Варьируется тот же самый материал. Таким образом, неверным было бы противопоставление сюжета и композиции: их основа – во многом общий образный и словесный материал. Различие в том, что сюжет характеризует динамику материала, а композиция – статику. Белинский удачно назвал сюжет «движущейся композицией».
Итак, сюжет и композиция как категории «внутренней» (образной) формы соотносимы. И все же композиция, условно говоря, – элемент более «чистой» формы, чем сюжет. В отличие от композиции, в сюжете просматриваются исторические и социальные образные детали, позволяющие соотнести его с эпохой или сословием без указания на дату. Такие детали могут быть столь же «сюжетны», сколько и «композиционны»: предметы быта, одежда, оружие, передвижение войск, государственные акты и т. д. Это обстоятельство, видимо, и позволяет ученым отнести сюжет к категориям содержания. В действительности социальность и историзм сюжета относительны, проявляются лишь в сюжетных деталях. Конечно, сюжет через эволюцию характеров выходит на проблематику, а через нее – на содержание.
Пересказывая события произведения, мы полагаем, что тем самым передаем и его содержание, так как в этом пересказе покрывается в значительной степени и идейно-тематический, т. е. содержательный, уровень произведения. На самом же деле, говоря о сюжете, следует ограничиться передачей событий.
В сюжете фиксируется художественное (сюжетное) время произведения, в композиции – художественное пространство. Для «хронотопа» в этом анализе места также не остается.
Сюжет имеет свою композицию, организацию, построение событийного материала: элементы сюжета (завязка, развязка, кульминация) могут быть расположены в определенных композиционных структурах (главах, частях, разделах, параграфах). С другой стороны, и композиционные структуры можно зафиксировать в элементах сюжета: главы и части – в развитии событий. Такова диалектика взаимодействия сюжета и композиции – категорий функционально различных и в одно и то же время слиянных. Следует лишь не механически, а творчески использовать эти особенности при анализе произведения.
По расположению событийного материала сюжет может обозначаться как центробежный, центростремительный, эгоцентричный (по нацеленности к центру и от центра произведения) и т. д.
В романтическом сюжете автор свободен от необходимости обоснования внезапности, фантастичности его поворотов: романтический сюжет опирается на недетерминированные характеры и обстоятельства. Таковы сюжеты повестей А. Марлинского. Реалистические сюжеты повестей Н. Гоголя обоснованы типичностью, верностью характеров и обстоятельств. Близость сюжета литературного произведения к фактической правде жизни определяется уровнем «прототипизма» автора. Степень соответствия художественного типа его прототипу сама по себе не определяет уровня художественности; только органическое, творческое соединение в характерах героев произведения черт типа и прототипа обеспечивает действительный уровень художественности.
Все ли произведения имеют сюжет? Для тех, кто рассматривает сюжет широко, за пределами событийной канвы, сюжет есть в произведениях всех родовых категорий: в эпосе, лирике, драме. В лирическом стихотворении нет событий, но есть «концепция действительности». «И скучно, и грустно, и некому руку подать…» – взгляд на действительность несомненен. Предполагается, что сюжет здесь выражен не в событиях, а в импульсах чувств и движениях мысли. Правда, их нелегко зафиксировать.
У сторонников идеи «всеобщности» категории сюжета есть и другие «упрощения». Цитируется стихотворение А. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). В строке «…Передо мной явилась ты…» (курсив мой. – Л. К. ) они готовы видеть событийную завязку. Но ведь это лирическое воспоминание поэта, а отнюдь не событие. Как видно, без натяжек в лирических произведениях не просто трудно, невозможно обнаружить сюжет как систему событий. Сюжет имеется только в жанрах эпоса и драмы.
В связи с проблемой сюжета в литературоведении бытует понятие «внесюжетных» элементов. Речь идет в данном случае о так называемых «отступлениях» – лирических, эпических и т. п. Термин «внесюжетный» условен, так как любой элемент формы содержателен, отражает какую-либо сторону идеи. И в этом случае «внесюжетный» означает и «внеидейный», т. е. художественно излишняя деталь, так сказать, эстетическая накладка, свидетельство некомпетентности автора. Пример эстетической необходимости «внесюжетного» элемента – вставная «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Гоголя. Это большая, развернутая новелла. Она, с одной стороны, как бы отвлекает чиновников губернского города от личности Чичикова. Но, кроме того, «повесть» имеет более точный художественный адрес, более глубокий функциональный аспект. Когда цензор исключил «повесть» при первом издании «Мертвых душ» (ввиду ее «крамольности»), Гоголь отказался публиковать книгу вообще: так велико было значение, придаваемое им новелле. Дело в том, что без «Повести о капитане Копейкине» гоголевская сатира «Мертвых душ» осталась бы на губернском (провинциальном) уровне. В этом случае художественная мысль Гоголя, которая по сюжетному замыслу, как он говорил, должна охватить «всю Русь», не включала бы столичную действительность. «Повестью о капитане Копейкине» Гоголь уравнивает столичный и губернский адреса сатиры «Мертвых душ». Что касается лирических отступлений, то их художественная функция восходит непосредственно к авторским позициям.
Давние дискуссии идут в литературоведении в связи с понятием «лирический герой». Термин чаще всего используется для того, чтобы «отличить» неавторские позиции от авторских. Термин вполне правомерен применительно к лиро-эпическим произведениям – басне, балладе, излишен для лирической сатиры, где он тождествен взглядам автора. В более «чистой» лирике (элегической, интимной) различать позиции героя и автора сложно. И потому здесь едва ли можно вывести лирического героя на сюжетно-событийный уровень.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: