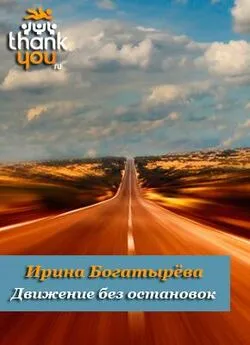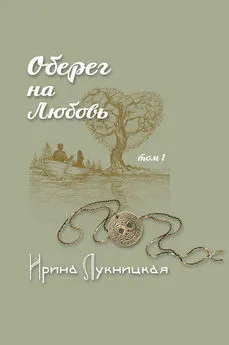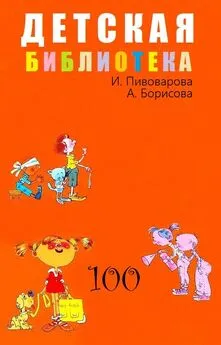Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
- Название:Движение литературы. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0147-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II краткое содержание
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.
Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.
В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.
Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).
Движение литературы. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
4
Ссылаюсь на примеры главным образом из книги стихов: Кушнер А. Письмо. Л., 1974.
5
Кушнер А. Прямая речь. Стихотворения. Л., 1975.
6
Турбин В. Отражение отражений // Дружба народов. 1976. № 7.
7
См.: Контекст. 1981. М., 1982. С. 214–230.
8
Кушнер А. Канва. Из шести книг. Л., 1981.
9
Так именуется один из циклов «Таврического сада».
10
«Назад – к Орфею!» – см. с. 64 наст. изд.
11
Думаю, это нынешнее словцо стоит ввести в оборот для характеристики заметных стихотворений века, поражающих современников. И только будущее выявит, относится ли тот или иной «хит» к высшим достижениям, к «шедеврам» (так, у Блока «Девушка пела в церковном хоре…» – шедевр, а «Незнакомка» – несравненный «хит»).
12
Премию имени Владимира Соловьева, которую, как я поняла, дают в Ватикане за художественно достойную апологетику христианства, надо было бы присудить, по моему разумению, не сомнительной вещунье Ольге Седаковой, а автору «Amor fati». Но – нет правды на земле.
13
Как, впрочем, «Постэсхатологическое» – «Новыми робинзонами» Л. Петрушевской, вторая новелла из цикла «Война объявлена» – кажется, «Ближними странами» Д. Самойлова, а может быть, советским «военным» кино, «Поэма отъезда» – поздним Катаевым. Фантазию Быкова часто возбуждают впечатления вторичного порядка, но он умеет придать им визионерскую рельефность: так было, так снилось.
14
Статья написана в соавторстве с Р. А. Гальцевой.
15
Согласно статье С. С. Аверинцева в «Философской энциклопедии» (М., 1969, т. 5) спасение – «предельно желательное состояние человека, характеризующегося избавлением от зла – как морального <���…> так и физического.
16
В романе Хаксли эмблематика имен в высшей степени принципиальна. Дело в том, что фактически автор «Дивного нового мира» выступил как провозвестник «теории конвергенции»; ему представлялось, что на описанное им грядущее должны работать обе временно враждующие силы: «Господь наш Форд» налаживает производство, а «Маркс» ставит задачу формирования нового человека. Отсюда – два равноправных ряда имен, знаменующих технологические и идеологические святцы нового общества. К сожалению, читатель первого «публичного» русского перевода, напечатанного «Иностранной литературой», не мог в этом до конца разобраться. В первом ряду имен пропущен наш физиолог Павлов (его бихевиористская по существу рефлексология в 20-х годах обратила на себя мировое внимание, и в оригинале романа зал выработки рефлексов у дрессируемых младенцев называется «неопавловской комнатой»). Во втором ряду нарочито англизированной транскрипцией до неузнаваемости искажено имя юной героини: она ведь не Линайна, а Ленина.
17
В реальной жизни такое господство над телами и душами было бы невозможно без тотального экономического отчуждения, признаков которого не видно в самодеятельно промышляющей Деревне. Но в антиутопии – как в мысленном социальном эксперимента – всегда, намеренно или невольно, не учитываются то одни, то другие параметры, без каких моделируемый мир не мог бы состояться. Зато до упора доводятся избранные для анализа тенденции.
18
Кажется, впервые, если иметь в виду книги, заслужившие мировое признание, антиутопическая фабула получает благополучный исход в повести Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту»: герой, восставший с оружием против тотально обезличенного мира, спасается от преследований его исчадия – Механического пса и, омывшись в водах пограничной реки, ступает на свободную, живую землю. Повесть с этим символическим финалом вышла в свет в 1953 году и как бы обозначила перелом от безнадежности к надежде для тех, кому выпало жить во второй половине века.
19
Оно принадлежит известному социологу новой выучки Л. Гудкову
20
Кстати, застрахована, как это ни парадоксально, «консерватизмом» среднего европейца, человека массы, довольного (что, быть может, не так уж душеполезно) обычной колеей своей жизни и молчаливо гасящего в своей толще крайности интеллектуальных мод.
21
Кстати, Петр Пустота и стилем личности, и двойственным поведением своим (монархист на службе у красных) напоминает героя очерка Александра Блока «Русские дэнди» – как известно, В. Стенича, который разыгрывал Блока рассказами о мнимом совращении молодых рабочих и крестьян разочарованной ителлигентной молодежью, такою, как он, сам же прекрасно ладил с новой властью. «Ведь мы пустые, совершенно пустые» – вот еще одна книжная страница, негаданно раскрывшаяся в нужном месте. Мне даже показалось, что в главах, где рассказ ведется от лица Петра, Пелевин старается подражать слогу и колориту этого блоковского эссе. И небезуспешно – хоть слов «эйфория», «самоидентификация» и «практически» следовало бы избегать.
22
Тем же манером, «на пальцах», в одном из эпизодов объясняется разница между философией Платона и Аристотеля, да так складно, что хоть печатай в учебнике!
23
Полагаю, что автору отлично известно правильное написание имени загадочного барона, но, видно, он соблазнился скрестить его с Карлом Густавом Юнгом или с Э. Юнгером.
24
Вспоминается парабола Клайва Льюиса «Расторжение брака». Там все райское (прекрасное) – субстанциально, наделено надежной устойчивостью, благой тяжестью и внушительными размерами. А все, взятое адом, микроскопично, призрачно, спиритуально в дурном смысле.
25
Предположение, что автор специально использовал в романе фамилию «Азадовский» для дискредитации ее подлинного носителя, председателя букеровского жюри, – в виде мести за грядущее неприсуждение премии, – предположение это представляется излишне хитроумным. Во-первых, «Азадовский» не более антипатичен, чем прочие лица этой сатирической фантазии, а во-вторых, чем тогда объяснить использование фамилии, а заодно и профессии реального анимационщика Александра Татарского? По-моему, в обоих случаях – простой бесцеремонностью. Которая, конечно, не похвальна.
26
Кстати, я перечитывала роман, положив перед собой двухтомник «Мифы народов мира», и убедилась, что Пелевин там, где не прибегает к пародии, неожиданно корректен (хоть и пользуется не принятыми у нас транскрипциями собственных имен).
27
Судя по тому, что другие металлургические гиганты – Липецкий, Нижнетагильский – названы подлинными именами, за вымышленным Ахтарским мне тоже брезжит реальный прообраз – Кузнецкий металлургический комбинат, КМК в городе Новокузнецке (бывшем Сталинске). Там я некоторое время жила в военном детстве, потом, годы спустя, в городской библиотеке выдавала книжки охочим до чтения сталеварам (телевизора еще не было)… Как хотелось бы верить, что этот дорогой мне город попечением какого-нибудь хана Извольского сыт, свободен от преступности и рабочие там получают по тысяче и более долларов в месяц, а старики – изрядную прибавку к пенсии. Увы, подтверждения этому пока не имею.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: