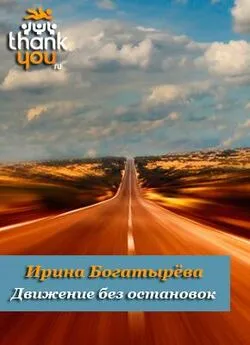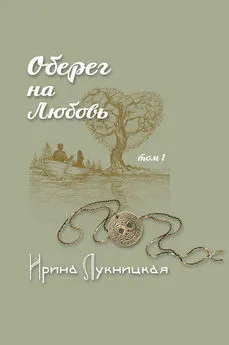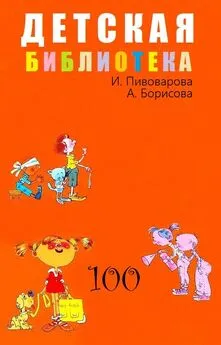Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
- Название:Движение литературы. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0147-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II краткое содержание
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.
Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.
В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.
Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).
Движение литературы. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
55
Убедительнейшие соображения о способности метра выделять «стиховое» слово высказаны в книге Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» (Л., 1924). Однако в книге Тынянова есть известная недоговоренность: он недостаточно подробно останавливается на том, какую специфическую роль в стиховом образотворчестве играет эта выделенность, выдвинутость слова.
56
Стих Маяковского предоставляет фразе огромную интонационную свободу. В частности, процитированный выше отрывок мог бы в сильной степени подчиняться прозаически-повествовательной интонации, причем ощущение мерности не нарушилось бы, а только слегка ослабилось:
Мой стих
дойдет через хребты веков
И через головы поэтов
и правительств.
57
Ю. Н. Тынянов называл эту особенность, привносимую метром в речевой массив, эффектом единства и тесноты ряда.
58
Границы этих относительно равновеликих групп не вполне совпадают с границами стоп, но как бы имеют тенденцию к такому совпадению, поскольку каждая группа несет по одному метрическому ударению. Ср. со строчками, где такого совпадения нет, где трехстопный размер, напротив, как бы вступает в единоборство с интонационно-синтаксическим членением фразы:
То, / что было незримо доселе
или:
И душа его / в мир поднималась.
59
Б. Томашевский утверждает, что фразовое ударение всегда стоит на последнем слове стиха, точнее на слове, несущем последнее в строке метрическое ударение. Это слово, действительно, произносится несколько по-особому. Однако его выделенность и подчеркнутость имеют совсем не «фразовое», а метрическое происхождение. Фразовые ударения стоят и в стиховой речи там, где им положено стоять по смыслу. Обе произносительные тенденции – «фразовая» и «метрическая» – накладываются друг на друга, и продуктом их взаимодействия является качественно новая интонация.
60
Впрочем, понижение не слишком резкое, так как вся фраза, оформленная строфой, по своему синтаксическому строю представляет «открытую конструкцию»: «приближался апрель», «бил ручей», «грохотал лоток» – перечисление окончено, но могло бы и продолжаться, полной интонационной завершенности нет. Между прочим, этот оттенок «открытости» является формальным моментом, подчеркивающим экспозиционный характер фразы-строфы. Он усиливает ощущение, что повествование только началось, усугубляет ожидание продолжения, укрепляет связь между первой строфой и следующей вопреки их «стансовой» замкнутости.
61
Этот неловкий оборот «незнакомого мне человека» к тому же предвещает стилистический «дилетантизм» четвертой строфы, подготовляет нас к восприятию ее намеренного примитивизма.
62
Поэтому большие поэтические формы (поэмы, повести и романы в стихах), в которых использованы свойственные прозе способы сюжетосложения, либо нестрофичны, либо слагаются из строф специфического характера: достаточно протяженных для того, чтобы вместить повествовательный эпизод (октава, онегинская строфа) или связанных системой рифмовки в непрерывную цепочку (терцины). Короткие строфы создавали бы неоправданную монотонию и мешали бы развитию повествования. В балладе (в значении «рассказ-песня») эта монотония возможна, так как связана с монотонным повторением предполагаемой музыкальной мелодии, но и баллада тяготеет к протяженной строфе (ср. с тем, как четверостишия объединяются попарно и сливаются в восьмистишия в стихотворении Заболоцкого «Я трогал листы эвкалипта…», отчасти напоминающем балладу).
63
Мне могут возразить, что и в современной прозаической новелле или повести достаточно часто «ничего не случается», поскольку движение сюжета сводится к изменениям во внутреннем, душевном состоянии персонажей. В ответ на это возможное возражение я обращаю внимание читателя на глаголы: «стоял», «держал», «перелистывал», «вздымал», «открывалось» и т. д. Это глаголы несовершенного вида. Они соответствуют некоторому постоянному (в границах произведения) состоянию, не указывая на смену одного состояния другим, на некие начало и конец, исходную и финальную точки. Если бы было не «вздымал», а «поднял», не «открывалось», а «открылось», это было бы равнозначно совершившемуся событию (с героем бы что-то произошло) и сыграло бы роль фабульного элемента: стихотворение приобрело бы большее сходство с рассказом. Ср. с «Я трогал листы эвкалипта…», напоминающим, как уже говорилось, балладу-песню: «И вздрогнуло сердце от боли».
64
Не всегда и не как правило, а в конкретном случае, рассматриваемом нами.
65
Возможен «прозаический» зачин: «Приближался апрель»; но слово «к середине», стремящееся к непосредственной близости с управляющим им глаголом, требует иной расстановки слов в прозаическом варианте: «Апрель приближался к середине».
66
Причем все возрастающий натиск, напор, так как размах, разгон каждого из сопоставленных, параллельных членов сложносочиненного целого все увеличивается, по сравнению с предшествующими: второе предложение вследствие сложного интонационно-синтаксического членения и запятой в середине строки («бил ручей, упадая с откоса») произносится в более «затрудненном» темпе, чем первое (и к тому же – с повышением голоса, свойственным «перечислительной» интонации); третье предложение уже распространяется на два стиха. Амплитуда сопоставления-параллелизма как бы раскачивается.
67
Она, эта строфа, «инструментована» тоже «шумно», пронизана сочетаниями мгновенных, взрывных «б», «п», «г» с плавными «р» и «л», что напоминает о грохоте лотка и о бульканье воды. Это не столько звукоподражание, сколько звукоподражательный «намек»: наше внимание привлечено этим скромным эффектом не в такой степени, чтобы померк сложный духовный смысл строфы – вещественность не в ущерб одухотворенности, как и следовало ожидать от Заболоцкого с его удивительным чувством меры.
Рокочущее «р», уже смягченное сочетанием с почти беззвучным «х», захватывает начало следующей строфы и затем на время утихает с появлением «незнакомого человека», сопровождаемого новым произносительным и акустическим «мотивом» из «м», «н», «л».
68
Ср. у Пастернака:
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.
Необъяснимый, с точки зрения логического членения речи, enjambement во втором стихе заставляет телесно ощутить головокружительный поворот Млечного пути. Произнося эти строки вслух, хочется помочь голосу движением руки или головы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: