Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения
- Название:Реализм эпохи Возрождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва, СПб.
- ISBN:978-5-98712-538-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения краткое содержание
Выдающийся исследователь, признанный знаток европейской классики, Л. Е. Пинский (1906–1981) обнаруживает в этой книге присущие ему богатство и оригинальность мыслей, глубокое чувство формы и тонкий вкус.
Очерки, вошедшие в книгу, посвящены реализму эпохи Возрождения как этапу в истории реализма. Автор анализирует крупнейшие литературные памятники, проблемы, связанные с их оценкой (комическое у Рабле, историческое содержание трагедии Шекспира, значение донкихотской ситуации), выясняет общую природу реализма Возрождения, его основные темы. Вершины гуманизма XVI века – Эразм, Рабле, Шекспир, Сервантес – в наиболее характерной форме представляют реализм Возрождения во всем его историческом своеобразии.
Реализм эпохи Возрождения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переходный – и завершающий и основополагающий – характер литературы Возрождения обнаруживается также в природе ее сюжетики, особенно в произведениях высокого повествовательного жанра. Одной из центральных проблем в эстетике Ренессанса, когда рождается роман как «буржуазная эпопея» и «эпос частной жизни» с вымышленной фабулой и неисторическими героями, является проблема сюжета эпопеи. Трудность здесь заключается, согласно итальянским теоретикам XVI века, в том, что эпический сюжет должен сочетать правдивость действительных событий с художественным вымыслом: читатель должен «верить» плоду поэтической фантазии. Без наивной читательской веры в фактическую основу повествования нет эпической серьезности тона и значительности материала, остается только приятная сказка; но без поэтического вымысла, без чудесного и удивительного сюжет переходит в сухой исторический рассказ, который ничего не говорит воображению и оставляет читателя холодным. Эту антиномию (по существу неразрешимую после исчезновения классического эпоса) ясно формулирует молодой Т. Тассо в «Рассуждениях о поэтическом искусстве, в особенности о героической поэзии». Характерно, что теория тем самым еще исходит из сюжета-фабулы, так же как и художественная практика.
Многочисленные в это время и в различных направлениях ведущиеся опыты возрождения эпопеи отмечены прежде всего поисками благоприятной «материи». Поэты обращаются к сюжету мифологическому («Геркулес» Джиральди), легендарному («Амадис» Б. Тассо, «Франсиада» Ронсара, «Королева фей» Спенсера), историческому («Италия, освобожденная от готов» Триссино), религиозно-историческому («Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо). Даже наиболее новаторская «конквистадорская» поэма Камоэнса и Эрсильи все еще не в силах порвать с традиционным представлением, что основой эпического повествования должны быть реальные события. Соревнуясь с прославленными историями поэтов прошлого, она лишь противопоставляет им актуальный героический сюжет из современной эпохи, украшенный мифологическими аллегориями. «Незачем ныне прославлять путешествия хитроумного грека или доблестного троянца, воспетые в бессмертных песнях Гомера и Вергилия… Перед нами предмет более достойный поэта – пою племя Луза, покорившее Марса и Нептуна» (Камоэнс, «Лузиады», песнь I).
На почве легендарной истории и персонажей, с которыми поэтическое воображение читателей давно сжилось, создаются поэмы Пульчи, Боярдо и Ариосто. В обращении со старинным материалом итальянские мастера, следуя традиции народных певцов, разрешают себе любые вольности. Они коренным образом меняют ситуацию и под именами суровых паладинов Карла выводят куртуазных рыцарей короля Артура, которых к тому же наделяют современным образом мыслей и чувств. Трактуя средневековую материю в духе ренессансных идей, вливая новое вино в старые мехи, они, однако, не выходят за пределы норм сюжета-фабулы. Даже авторы пародийных поэм (Т. Фоленго «Бальдус», «Орландино», П. Аретино «Орландино», «Марфиса»), ставя себе целью борьбу с модными новорыцарскими романами и поэмами, пользуются только приемом травестии («переодевания») старых сюжетов и героев, снижением и карикатурой. Эта традиция «переодевания» переходит к антигероическим бурлескным произведениям XVII–XVIII веков типа тpaвестированных «Энеид» – от Скаррона во французской литературе до Осипова в русской. По существу характер фабулы здесь скорее противоположен «Дон Кихоту» Сервантеса, даже в плане пародии на рыцарский роман.
Но литература XVI века отмечена уже и первыми опытами сюжета-ситуации. Переходом к нему является пасторальный роман, которому отдал дань и Сервантес как автор «Галатеи» и пасторальных эпизодов «Дон Кихота». Этому любимому в эпоху позднего Возрождения жанру, условному начиная с заглавия (традиционные «Аркадии» и «Дианы»), присуща травестия иного рода; фабула и персонажи здесь уже плоды художественной фикции, а предмет изображения – искусственная идеальная жизнь пастушков, переряженных на «поэтический» лад. Жизнь в пасторальном романе показана как бы в донкихотском утопическом сне, и через все произведение проходит мотив томления по ушедшему «золотому веку». В отличие от этой искусственной ситуации, плутовской роман, зарождающийся в испанской литературе эпохи Сервантеса, впервые вводит реалистический сюжет-ситуацию с вымышленными персонажами и происшествиями. Типическая достоверная правда современной жизни здесь противостоит выдохшейся «правде» старых рыцарско-эпических сюжетов, превратившихся в неправдоподобную сказку. Уже в первом плутовском романе о некоем безвестном Ласаро, которого мать родила на реке Тормес, символически раскрывается ситуация всего жанра. В дальнейшем авторы плутовского романа в XVII и XVIII веках развивают не фабулу анонимного «Ласарильо», но лишь эту ситуацию героя, которого «река» жизни бросает, как щепку, во все стороны, определяя его изменчивую, авантюрную, но отнюдь не в рыцарском смысле, судьбу.
Старый сюжет-фабула был «героической» материей. Гарантией правды исключительных характеров и событий, на которую опиралось искусство художника, придавая образам общечеловеческий интерес, были свидетельства легенды и истории. Вымышленная фабула о безвестном персонаже и обстоятельствах его судьбы, затерявшихся в закоулках частного быта, не может иметь такой гарантии. Залогом правдивости рассказа служит теперь его «типичность» – правдивость изображения обстоятельств жизни одного из многих. Акцент переносится поэтому на картину общественной жизни. Известно, какую роль сыграл пикарескный жанр в становлении реалистического романа новоевропейской литературы. Характер человека и его поведение здесь впервые поставлены в зависимость от общественных условий. В противоположность героическому сюжету-фабуле, где основные мотивы связаны традицией с определенным лицом, носителем известных страстей и героем известных событий, здесь социальные обстоятельства впервые выступают во всем своем могуществе. Обстоятельства порождают и характер героя, и его страсти, и его поступки, а значит, и фабулу. Плутовской роман поэтому первая широкая реалистическая картина формирующейся национальной жизни, универсальная панорама ее пестрого быта, через которую проведен герой ходом беспокойной своей жизни.
Тем самым выступает и другое отличие сюжета-фабулы от сюжета-ситуации. В произведениях на сюжет Дон Жуана или Фауста, Электры или Ифигении, мы всегда в обстановке, фиксированной во времени и месте, хотя бы и легендарных, однако их колорит отвлеченный и условный. Наше воображение в силу легендарности и «проблемности» сюжета витает между историческим временем действия – и вневременным, между национально и социально конкретным – и общечеловеческим. Напротив, сюжет романа о плуте, сюжет «воспитательного романа» или романа о «молодом человеке, вступающем в жизнь», не фиксирован во времени и месте, если рассматривать сюжет-ситуацию в целом , но зато в каждом произведении уже неотделим от изображенных в нем своеобразных национально-исторических условий. В «Дон Кихоте» Сервантеса исторический момент и национальная почва лежат даже в основе самой схемы фабулы. Это рассказ об одном идальго, который, живя в то время, когда рыцарство уже исчезло, но все в Испании увлекались рыцарскими романами, отправился, по примеру героев любимых книг, защищать справедливость. В этом смысле Белинский отмечает, что «Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман» [118].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
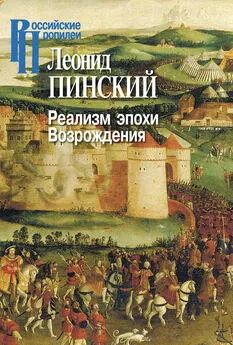






![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/1078276/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik.webp)

