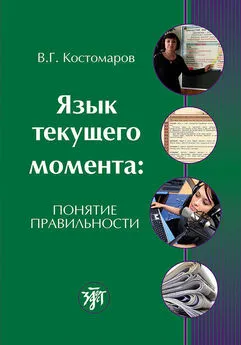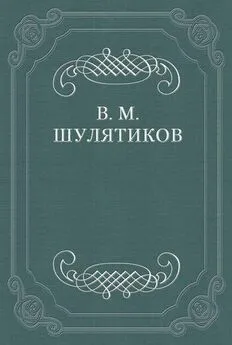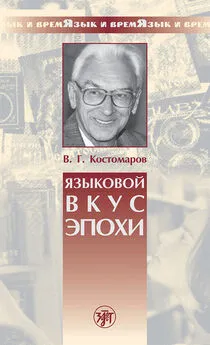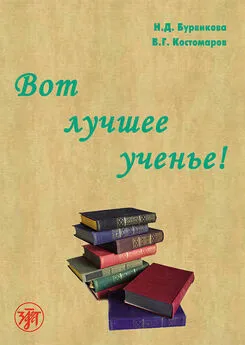Виталий Костомаров - Язык текущего момента. Понятие правильности
- Название:Язык текущего момента. Понятие правильности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Златоуст»5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-86547-835-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Костомаров - Язык текущего момента. Понятие правильности краткое содержание
В монографии представлен авторский взгляд на одно из ключевых понятий языка – понятие правильности. Анализируются процессы, происходящие в современном русском языке, в числе важнейших – сближение его разговорной и письменной разновидностей, происходящее под воздействием сетевого общения. Также рассматриваются механизмы изменения языковой нормы и влияние социума на язык.
Книга адресована лингвистам, преподавателям русского языка и студентам гуманитарных факультетов вузов.
Язык текущего момента. Понятие правильности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Своеобразной реакцией на наблюдаемые растерянность и сумятицу стали разные взгляды на идею нормализации. Справедливо отвергаются свойственные даже историко-динамическим концепциям норм середины прошлого века прямолинейные оценки как исключительных гарантов стабильной правильности и понимание всего образованного (нормативно и литературно) языка как их совокупности. Предлагается говорить о нормах первого уровня и нормах второго уровня . Первые кодифицированы, а вторые свободно обращаются в жизни образованных людей, хотя и не записаны, не утверждены. Они если иногда и записаны, то не в общеязыковом масштабе, а ограниченно – в сфере науки, профессии, социальной группы. Это соответствует различению в общем литературно образованном языке таксонов норм и ненорм, однако неудачно наводит на мысль, будто, помимо всеобщего литературного языка, существуют параллельные ему субстандарты. В целом же этой теории нельзя отказать в дальновидной объяснительной силе, хотя, в принципе, ей чужда идея таксономии нормативного образованного языка, наличия в нём, наряду с нормами, ненормированных (по большей части принципиально не нормируемых) ресурсов.
Вполне разумно разделение норм языка и норм речи, хотя оно, как кажется, нарушает представление соотношения «язык – речь» и понятие правильного образованного языка как некоторого единства. Эта точка зрения прекрасно обоснована А.Ю. Константиновой в статье «Современные тенденции развития русского языка» (в сб. «Тексты лекций и образцы уроков» (М., 2011)) и в полемических статьях «Нормы успеха» и «И в каждой букве дух живёт» (ЛГ. 2014. № 3, 6). Сходную позицию занимали ещё в ГДР авторы сборников «Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft», «Normen in der sprachlichen Kommunikation» (Веrlin, 1974; 1977) и др., увязывая нормализацию с пониманием «правильного языка (речи)» (см. раздел 8).
Нельзя не вспомнить здесь и работы замечательного исследователя О.Б. Сиротининой. Разрабатывая теорию хорошей речи, она писала об узуальной норме, которая, конечно же, не подвергает сомнению необходимость корпуса собственно норм в языке. Заметим, что узуальные нормы, как и только что упомянутые речевые , лишний раз оправдывают выделение в самом образованном языке таксона разнообразных ненорм (см. раздел 5.5).
Труднее согласиться с набирающей сейчас популярность концепцией вариативности норм, которая растворяет их значение как стражей порядка, единообразной правильности. В периоды бурного языкотворчества, когда русский язык «на грани нервного срыва», как удачно выразился М. Кронгауз, велик соблазн переувлечься сбором новшеств, классификацией социальных, функциональных и иных дифференциаций. Это, несомненно, благородное и нужное дело, особенно в стране, освободившейся от стеснений строгого диктата консервативного нормализаторства. Естественно желание теоретика собрать как можно больше примеров обновления в надежде, что их научное изучение поможет познать потенции, пути и законы развития, даже предугадать его мыслимую динамику в будущем.
Как мы уже упоминали, от этого не уберёгся сам великий А.А. Шахматов, подменяя норму образцами употребления, вызвав тем самым гнев гимназического учителя И.Х. Пахмана. Тащить в единую норму всё, что реально существует в пределах образованного языка, тем более на его периферии, противно учительскому сознанию. Выход здесь именно в признании и утверждении таксономии образованного языка. Ненорм значительно больше, чем норм, но они (как, конечно, и антинормы), в отличие от норм, совсем не предмет научения. Важно не думать, что это утверждение и рекомендация новых норм. Ведь и учёный, жаждущий привести в известность, инвентаризовать всё наблюдаемое в языке, не может не понимать, что есть некая грань, за которой видна гибель литературно образованного языка.
Применительно к педагогической практике концепция вариативности норм не кажется ни удовлетворительной, ни перспективной, ни полезной для его упорядочения и преподавания. Она дезориентирует ревнителей культуры языка, учителей, авторов словарей, описательных грамматик, учебников. Будучи представлена в виде «пучка» вариантов, норма, как материал или хотя бы ориентир правильности, теряет сингулярность, свою однозначную суть, ставит всех в неловкое положение, затем что мешает хранить традицию, отдавать дань призыву А.С. Пушкина уважать «отеческие гробы».
Сходная ситуация излишнего разнобоя в языке послереволюционных лет прошлого столетия породила замечательную статью А.М. Пешковского «Объективная и нормативная точка зрения на язык» (Избранные труды. М.; Л., 1959). Сегодня эта статья вновь злободневна, потому что растворение понятия нормы в хитросплетениях теории и истории делает борьбу за культуру общения бескрылой, тогда как сиюминутная практика требует, напротив, дисциплинировать расхлябанное неуважение к языку.
Внедряемые школой и мнением широкой публики нормы удерживают порядок в публичном и повседневно-личностном общении. Выверенный их базовый кодекс корректирует и разумное обращение к ненормируемым богатствам языка, управляет полем чересполосного их взаимодействия с иными возможностями передачи содержания. Тут и приходится наступать на горло собственной песне. Не говоря о школьнике, всякий взрослый, стоящий на прочной почве здравомыслия и не желающий опростоволоситься, хочет подтвердить своё мнение ясным советом компетентных специалистов.
Учителю, позиция которого непроста и ответственна, тем более не обойтись без определённости авторитетных пособий, учреждений и лиц. Он с интересом узнаёт, что нормы вариативны, прихотливо зависят от динамики языка и настроя общества, отражают взаимодействие коммуникативной целесообразности и традиции. Можно потешить себя, признав сегодняшнюю разболтанную вседозволенность. Но беда, если он на месте хранителя синхронно неподвижной правильности, не сможет передать эту правильность своим воспитанникам.
Учитель призван внедрять бесспорно и однозначно правильное. Его роль и авторитет абсолютны, как образец для подражания он преодолевает и собственные сомнения. При возражении ученика, дома у которого говорят ща́вель , он попросит на его уроках говорить щаве́ль , потому что сам так привык по аналогии с мете́ль, посте́ль, шине́ль . Непослушание же его привычкам – наказуемая ошибка по праву учительского «красного карандаша». Если, решив содействовать аналитизму, учитель не сочтёт ошибкой несклонение таких географических названий, как Сколково, он прослывёт неисправимым новатором. Его же будут считать безнадёжным консерватором, если он будет настаивать на правильности живу в Сколкове, недалеко от Сколкова . Таковы опасности профессии, но ещё хуже заявить, что и так и так можно, что это варианты одной и той же нормы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: