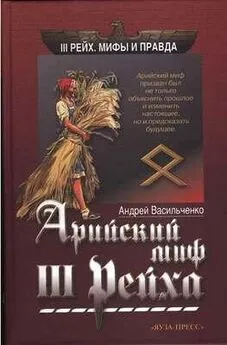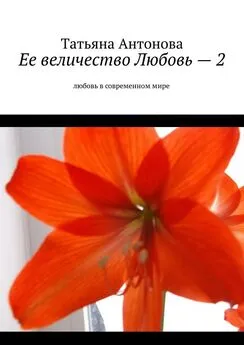Виктор Шнирельман - Арийский миф в современном мире
- Название:Арийский миф в современном мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0422-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Шнирельман - Арийский миф в современном мире краткое содержание
В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во временном, так и в политико-географическом измерении. Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в России и его возрождении в постсоветском пространстве. Прослеживается формирование и развитие арийского мифа в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются особенности их диалога, выявляются социальные группы, склонные к использованию арийского мифа (писатели и журналисты, радикальные политические движения, лидеры новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий, ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в Индии, правые радикалы и скинхеды в России).
Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков и литературоведов, социологов и политологов, а также всех, кто интересуется историей современной России. Книга может служить материалом для обучения студентов вузов по специальностям этнология, социология и политология.
Арийский миф в современном мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, Доброслав не был бы неоязычником, если бы прочно связал мировое зло с одним лишь христианством. Нет, он копал гораздо глубже. Позаимствовав из эзотерических учений склонность к вегетарианству, он полагал, что впервые гармонические взаимоотношения человека с животными были подорваны введением скотоводства, ибо это противоречило законам Природы. А в одомашнивании животных он винил «семито-хамитов», якобы пришедших из Атлантиды и познакомивших другие народы мира со скотоводством и обычаем принесения кровавых жертв (Добровольский 1994: 62–65).
Свою концепцию Доброслав строил на основе якобы русского природного крестьянского социализма, делающего упор на полном социальном равенстве, уравнительности, дележе, добровольном самоограничении и не признающего права частной собственности. «Капитализм и совесть несовместимы», – заявлял он (Доброслав 1996б: 3).
Доброслав объявлял бескомпромиссную войну «жидовскому игу», причем символом этой «национально-освободительной борьбы» он делал языческий знак Солнца, восьмилучевой Коловрат (Доброслав 1996б: 3). Это один из любимых символов современных русских неоязычников; он сопровождает и многие публикации самого Доброслава. И хотя этот знак формально отличается от нацистской свастики, фактически он состоит из двух наложенных друг на друга свастик. По смыслу же он полностью совпадает с нацистской свастикой, что подтверждал сам Доброслав. Мало того, называя евреев («жидов») дармоедами и паразитами, он полностью оправдывал погромы как «вынужденную народную самооборону» и пророчил скорый русский бунт (Доброслав 1996б: 6–7).
Далее, подобно нацистам, Доброслав дышал ненавистью в отношении города и горожан, которые якобы изменили национальным ценностям и обуржуазились. Поэтому в революции 1917 г. он видел восстание деревни против города и… «русской правды против жидохристианской кривды». Об иной популярной у русских националистов версии, согласно которой «революцию сделали евреи», он благоразумно умалчивал. И он сознательно обелял большевизм, называя его «стихией русской души» и противопоставляя марксизму (Доброслав 1996б: 5). Соглашаясь с тем, что революцию возглавляли большевики-интернационалисты, даже «нерусские по крови», он утверждал, что они фактически выполняли «русский национально-исторический наказ-задачу». Иными словами, объявляя революцию 1917 г. «попыткой возвращения на свой естественный самостоятельный путь» (Доброслав 1996б: 6), Доброслав фактически воскрешал пореволюционные концепции (национал-большевизм, евразийство и пр.), популярные у части русских эмигрантов в 1920-х гг. И это заставляло его ратовать за «союз националистов и коммунистов-патриотов» во имя строительства «русского национального социализма» (Доброслав 1996б: 7). Такая линия антихристианских и антисемитских рассуждений рождала у части неоязычников симпатию к «национально ориентированным» коммунистам.
Сходной позиции придерживался и другой ветеран русского радикального языческого движения, И. И. Синявин, создавший в первой половине 1990-х гг. свое учение «Стезя Правды». Основы своей идеологии он выработал еще в 1980-х гг., но тогда он еще был далек от язычества и боролся за предоставление полных прав трем мировым религиям – русскому православию, исламу и буддизму. И «Святая Русь», очевидно, рисовалась ему тогда в христианском обличье (Синявин 1989: 8). Его сдвиг к язычеству произошел в начале 1990-х гг., к чему привели не религиозные искания, а траектория радикализации русского национализма.
Многие свои идеи он сформировал еще в 1980-х гг. Уже тогда он представлял Россию островом Совести и Духа, окруженным со всех сторон злыми силами, стремящимися к ее уничтожению, ибо якобы она одна упорно мешала их амбициозным планам мирового господства. Во главе этих сил Синявин видел США и сионистов и заклинал против заимствования у них идей плюрализма, демократии и либерализма. В частности, он заявлял, что «мировые сионистские центры манипулируют евреями для осуществления тайных планов по захвату мировой власти», и призывал евреев покаяться за все злодеяния, якобы совершенные ими в России (Синявин 1989: 4). Он испытывал и ненависть к марксизму, видя в нем идеологию разрушения, а не созидания. Вокруг ему мерещились сплошные русофобы, целенаправленно осуществляющие «геноцид русского народа». Он боготворил русский народ и противопоставлял ему «продажных чиновников и политиков». В своем стремлении сохранить единство и могущество России он уповал только на русский народ, а правящую элиту рассматривал исключительно как «пятую колонну» и доказывал, что в руководство страной проникли «сионисты». Он не призывал к новой революции, но, выступая за сохранение коммунистической партии (причем без марксизма!), настаивал на чистке партийных рядов. Он верил, что России нужна жестая централизация власти, строгая дисциплина и однопартийная система; страна должна была походить на монастырь или армию. Нация и государство были для него, безусловно, важнее личности.
Он не желал распада России-СССР и стоял за равенство «коренных народов», но при этом призывал отказаться от ненавистной ему идеологии интернационализма. Полагая, что национальные окраины систематически грабят центр, он призывал перестать перекачивать туда экономические и финансовые ресурсы и остановить переселение «кавказцев» и «среднеазиатов» на «коренные русские территории». Он также предлагал ограничить республиканскую автономию, упразднив республиканские органы власти и оставив там лишь административные структуры, ведающие развитием культуры и здравоохранением. В то же время он поддерживал «этнокультурное размежевание» и полагал, что властям следует следить, чтобы доля лиц «чужой национальности» не превышала в республиках 20 %. Иными словами, он приветствовал ограничение свободы передвижения и определенную сегрегацию нерусского населения. А для лиц, чья «историческая родина» находилась за пределами России, он предлагал вводить дискриминационные порядки: ограничения на профессиональное образование и занятость в ряде важных для государства областей. Им он предлагал экстерриториальную автономию под контролем государства, обязанного следить, чтобы «туда не проникали организации, опасные для государства». Нет оснований сомневаться в том, что он имел в виду прежде всего евреев, вызывавших у него подозрения (Синявин 1989: 7).
Его экономическая программа страдала непоследовательностью. С одной стороны, он стоял за свободный рынок, но, с другой, был убежден в том, что государство должно было сохранить контроль над важнейшими отраслями промышленности. Он стоял за реформы, но был против либерализма. Первых в СССР рыночников («кооператоров») он обвинял в расхищении государственной собственности и ограблении народа. Рыночная система в его понимании, по-видимому, не предполагала купли-продажи земли, и он предлагал вернуть землю крестьянам. Кроме того, он стоял за социально направленное законодательство, проявляющее заботу о бедных. Выступая против алкоголизма, он предлагал ввести сухой закон. Короче говоря, несмотря на декларативные призывы к свободному рынку, его социальная программа отличалась очевидной левизной, что, разумеется, резко контрастировало с его неприятием марксизма. Одной из главных задач государства он видел «благо трудового народа», причем этот народ представлялся ему русскими. Зато в русскости властной элиты он сомневался и упрекал ее в «геноциде русского народа» и «русофобии». Одним словом, это была популистская программа национал-социализма, включавшая призывы к введению евгенических методов исправления здоровья населения путем стерилизации алкоголиков и наркоманов. Примечательно, что, отрицая революцию, Синявин предлагал проводить все реформы исключительно силовыми методами; иных он не знал. Он также настаивал на кардинальном обновлении государственной идеологии. Именно последовательная разработка этой программы и привела его вскоре к язычеству, которое он, по-видимому, представлял «истинно русской идеологией», не испорченной чуждыми влияниями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: