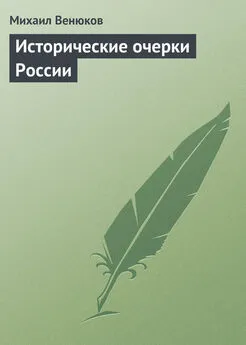Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
- Название:Пригов. Очерки художественного номинализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0423-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма краткое содержание
Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.
Пригов. Очерки художественного номинализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта длинная цитата содержит в себе основное положение статьи Гройса и определение особого характера московского концептуализма. Речь идет о дематериализации объектов в сторону мистики, которая, конечно, никогда не может дать нам никакого артикулированного концепта. Разумеется, русская культура не может быть вся сведена к мистицизму; в 1920‐е годы, например, она была по преимуществу ориентирована на вещь и строение вещей. Но дело не в этом. «Фаворский свет» – теологическое, мистическое понятие, которое, в сущности, ничего не объясняет, никак не раскрывает эксплицитных механизмов, лежащих за предметами искусства. В каком‐то смысле можно сказать, что «фаворский свет» сам нуждается в концептуалистской деконструкции.
Гройс объясняет, как функционирует московский концептуализм, на примере трех авторов – Рубинштейна, Чуйкова и Инфанте. Так, например, тексты Рубинштейна кажутся построенными в рамках определенных машинных алгоритмов, они даже записаны на «перфокартах» [7]. Кроме того, они обладают внешними чертами перформативов. Но эти представления мнимы. В действительности никакого концептуального аппарата позитивистского толка для этих текстов подобрать нельзя:
Описание дается внутри того пространства языка, которое образовано как бы его (языка) собственными возможностями и которому не соответствует никакой опыт.
«Это всё – лавина предчувствий, обрушившихся ни с того, ни с сего… – голос желанного покоя, заглушаемый другими голосами», и т. д.
Когда мы читаем подобного рода дефиниции, то настолько же легко понимаем «то, что в них говорится», насколько оказываемся в полной растерянности при попытке соотнести с ними собственный «внелитературный» опыт. Эти описания возможны только в мире, где есть литература, как автономная сфера развития и функционирования языка [8].
Романтизм такого концептуализма не позволяет выйти в метапространство описания, поскольку там эти «вещи» теряют всякий смысл. Перформативность в таком мире совершенно невозможна, алгоритмов тут нет, а есть чистая литературщина. Концептуалист оказывается замкнутым в рамках того самого языка, который он хотел бы описать. Этот язык, литература, улавливает его, как липучка муху. В таком концептуализме нет вещей, которые дематериализуются в концептах и моделях, но нет и дистанции между языком описания и его объектом. Гройс пишет об одном из текстов Рубинштейна, что он «очерчивает ту пустоту, в которой находит себе место чистая спонтанность, т. е. романтическая субъективность как таковая» [9]. И соответственно:
Собственно здесь отождествляются два императива: читать и писать. Литература обладает бытием, собственной реальностью и «реализацией» тогда, когда иная реализация «фактически невозможна» – иными словами, всегда. Текст Л. Рубинштейна – это синтаксис и практика романтического, данные в их единстве [10].
Но если тексты Рубинштейна лишь описывают пустоту, в которой реализуется спонтанность, а чтение и писание не отделены друг от друга рефлективной дистанцией, можно ли вообще говорить о московском концептуализме как о концептуализме в классическом понимании?
Пригов пытается теоретизировать концептуализм в рамках того описания, которое предложил для него Гройс, но быстро выходит за эти рамки в смысловое пространство, которое и вызывает мой особый интерес. Вот как он описывает ситуацию с концептуализмом в русской культуре:
Собственно же концептуализм, возникнув как реакция на поп-арт с его фетишизацией предмета и массмедиа, основным содержанием, пафосом своей деятельности объявил драматургию взаимоотношения предмета и языка описания, совокупление различных языков за спиной предметов, замещение, поглощение языком предмета и всю сумму проблем и эффектов, возникающих в пределах этой драматургии.
Объявившись у нас, концептуализм не обнаружил основного действующего лица своих мистерий, так как в нашей культуре уровень предмета традиционно занимала номинация, называние. И оказалось, что в западном смысле вся наша культура является как бы квазиконцептуальной. Тотальная же вербализация изобразительного пространства, нарастание числа объяснительных и мистификационных текстов, сопровождающих изобразительные объекты, очень легко легло на традиционное превалирование литературы в русской культуре, ее принципиальную предпосланность проявлению в любой другой сфере искусства [11].
Особенность русского концептуализма заключается в том, что вся русская культура по существу своему концептуальна, потому что не знает предметности. Конечно, в русской традиции существовало заметное философское направление, восходящее к исихазму, сосредоточенное на теологии и онтологии имени, так называемое «имяславие» (П. Флоренский, С. Булгаков, А. Лосев и др.). Но не думаю, что оно было актуальным для Пригова. Мне представляется, что, при всем интересе Пригова к негативной теологии, он не особенно интересуется православным исихазмом и фаворским светом, который упоминал Гройс. Речь скорее идет именно о своеобразном номинализме. Русская культура занимается номинацией. При этом она насквозь концептуальна. Но концептуальна она вовсе не потому, что имена связаны с понятиями, концептами, отражающими реальный порядок мира. Номинация обращает культуру не в сторону вещей, а в сторону литературы. За именами в русской культуре, в сущности, нет предметов.
Философ, которого считают канонизатором номинализма, но который, как справедливо заметил Этьен Жильсон, скорее является «концептуалистом» в схоластическом смысле этого слова, Уильям Оккам различал условные и естественные знаки. Жильсон прямо указывает на то, что именно естественные знаки являются концептами [12], так как прямо связаны с вещами, которые они обозначают. Оккам говорит о «явлениях души, являющихся естественными знаками» [13]. Обсуждая онтологический статус универсалий, Оккам утверждает, что универсалии существуют только в умах людей (как явления души). Доказывается это тем, что одни и те же реалии, вещи на разных языках называются по‐разному, и тем не менее люди всех рас и культур имеют общие для них представления об этих реалиях – например, человеке, собаке, животном и т. д. А это значит, что реалии мира производят в душе понятия, которые необходимо с ними связаны, как стон связан с болью или дым с огнем. Естественный знак – это именно концепт, абстрактная универсалия, производимая в душе самими вещами. Ален де Либера объясняет:
Общие умственные имена, относятся к тому, что Оккам называет «концептуальным дискурсом» (Summa logicae, I, I), то есть ментальным языком, предшествующим всем тем языкам, которые люди создали и которыми они пользуются для коммуникации. Ментальный язык состоит из слов, которые являются концептами, естественными знаками в противоположность письменным или устным словам, чье значение – это продукт конвенции [14].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: