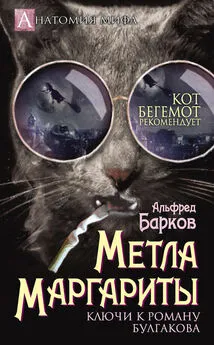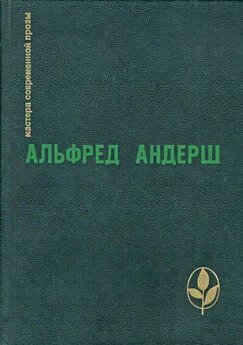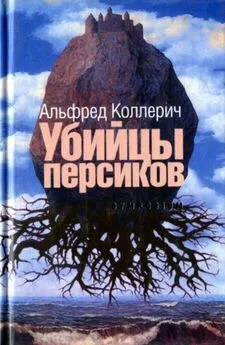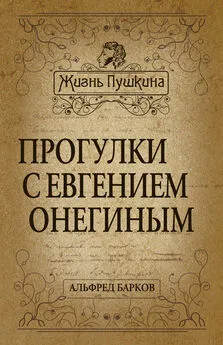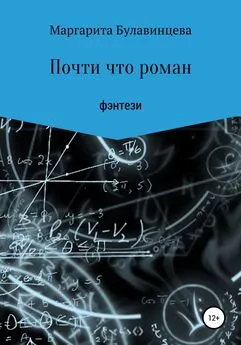Альфред Барков - Метла Маргариты. Ключи к роману Булгакова
- Название:Метла Маргариты. Ключи к роману Булгакова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-35-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альфред Барков - Метла Маргариты. Ключи к роману Булгакова краткое содержание
Эта книга – о знаменитом романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». И еще – о литературном истэблишменте, который Михаил Афанасьевич назвал Массолитом. В последнее время с завидной регулярностью выходят книги, в которых обещают раскрыть все тайны великого романа. Авторы подобных произведений задаются одними и теми же вопросами, на которые находят не менее предсказуемые ответы.
Стало чуть ли не традицией задавать риторический вопрос: почему Мастер не заслужил «света», то есть, в чем заключается его вина. Вместе с тем, ответ на него следует из «открытой», незашифрованной части романа, он лежит буквально на поверхности.
Критик-булгаковед Альфред Барков предлагает альтернативный взгляд на роман и на фигуру Мастера. По мнению автора, прототипом для Мастера стал не кто иной, как Максим Горький. Барков считает, что дата смерти Горького (1936 год) и есть время событий основной сюжетной линии романа «Мастер и Маргарита». Читайте и удивляйтесь!
Метла Маргариты. Ключи к роману Булгакова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ерушалаим, славный город,
Люди говорили.
По три раза босиком
Мы туда ходили.
Как установлено киевским исследователем М. С. Петровским, все присутствующие в романе исторические реалии евангельского периода были взяты Булгаковым из комментария к вышедшей до революции отдельным изданием знаменитой пьесы «Царь иудейский», написанной членом царской семьи Великим Князем Константином Романовым.
Можно видеть, что приводимые Булгаковым в романе исторические реалии подтверждаются общедоступными источниками; каких-либо собственных новаций он не ввел, хотя как художник имел на это право. Поэтому поиск ключей для разгадки скрытого смысла «ершалаимской» части романа на этом направлении оказывается бесперспективным. Остается предположить, что в качестве ключа к разгадке смысла «ершалаимских» глав и всего романа в целом служат концептуальные различия между содержанием этих глав и трактовкой православием Нового Завета.
Глава XL. «Роман в романе»
Булгаков пытается предложить свою художественно-научную версию жизни Христа.
В. Я. Лакшин [437]Сжечь роман так же невозможно, как отменить уже совершившееся событие, как отменить, скажем, исторического Христа, в ренановском духе осмысленного в «Мастере и Маргарите».
М. А. Золотоносов [438]Слащавый болтун Ренан…
Л. Н. Толстой [439]Среди булгаковедов нет единого мнения относительно идейной нагрузки «евангельских глав», называемых «романом в романе», «евангелием от Воланда», с которыми связано несущее какую-то ключевую смысловую нагрузку понятие о «свете» как антитезе «покою». Над разгадкой смысла этого противопоставления ломает копья уже не первое поколение булгаковедов. На булгаковских Чтениях (май 1991 года, Киев) В. Л. Скуратовский высказал интересную мысль о том, что в романе евангельское письмо сопряжено с фельетоном. С этим трудно не согласиться – с той лишь оговоркой, что это – не просто фельетон; создается впечатление, что Булгаков полемизирует с кем-то, введя в повествование образ Левия Матвея с его «козлиным пергаментом», который и является искаженной интерпретацией Нового Завета. Ведь если в уста самого Иешуа вложены слова «Я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал», то наверное же не просто ради красного словца; под этим явно подразумевалось чье-то искаженное толкование Евангелий, ключевое для раскрытия смысла всего этического пласта романа.
Без раскрытия сути булгаковской полемики, как и без внесения ясности в вопрос о значении понятий о «свете» и «покое», вряд ли можно будет считать работу по разгадке смысла романа удовлетворительной.
Сосредоточив, однако, внимание на самой фразе «Он не заслужил света, он заслужил покой» и вычленив ее из контекста, комментаторы романа незаслуженно обделили вниманием предшествующую ей весьма информативную тираду Воланда. «Не признаешь теней, а также зла», – укоряет он Левия.
Не означает ли это, что именно Левий и является автором концепции о «свете»?..
Оказывается, действительно означает! Это подтверждают слова Воланда: «… из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом ». Иными словами, автором понятия о «свете» является Левий, что делает его образ ключевым для понимания содержания «покоя» как антитезы «свету». Но единственное сочинение, вышедшее из-под стила Левия, – тот самый «козлиный пергамент». Тогда… уж не эта ли самая «фантазия» о «свете» является его содержанием?
«Не признаешь зла»… Но ведь это же – не что иное, как «Все люди – добрые», изрекаемое самим Иешуа! Следует ли понимать так, что Левий Матвей является автором и этой концепции?
Стоп, не будем спешить. Похоже, мы подошли к очень ответственному моменту – надо все четко расставить по местам.
Итак: рефреном по «ершалаимским» главам проходит максима Иешуа «Все люди добрые» (допустим, что Иешуа; по крайней мере, так она воспринимается исследователями романа – толкуя ее как безусловно позитивную, они строят на этом свои выкладки относительно идейной нагрузки этих глав).
Но, оказывается, она – креатура вовсе не Иешуа, а Левия Матвея. Того Левия, которого сам же Иешуа и обвиняет в искажении смысла своих проповедей. Причем не просто обвиняет – отвергает буквально все, что тот записал в «козлином пергаменте»!
Получается странная вещь: с одной стороны, Иешуа отвергает все, что записал Левий, в том числе и эту максиму, в которой Булгаков подразумевает какой-то негативный подтекст (давайте мягче: не «негативный», а «полемический»); с другой – Иешуа сам же и повторяет ее как одну из главных своих жизненных установок, не ссылаясь на Левия как на первоисточник.
Сплошные противоречия… Иешуа пользуется чужой концепцией из им же осужденного списка… Разобраться в этих противоречиях мешает то обстоятельство, что Булгаков как будто бы не дал никаких отправных моментов относительно содержания «козлиного пергамента». За исключением, возможно, единственной максимы «Все люди добрые», которая живет полнокровной жизнью вне «пергамента»; однако привлечение ее в качестве исходной позиции для анализа порождает новые проблемы, главная из которых – необходимость пересмотра традиционного подхода к оценке роли в романе образа Иешуа. А ведь на его восторженном воспевании построена едва ли не большая часть работ исследователей.
Но будем, как и прежде, следовать тексту самого романа… Ведь приходится переосмысливать и значение фразы «Он не заслужил света, он заслужил покой», поскольку уже сам факт того, что автором концепции о «свете» является Левий, требует внесения довольно ощутимых корректив в восприятие контекста, в котором она обрела жизнь в фабуле романа. Действительно, все исследователи, комментирующие это место, не без оснований воспринимают Левия как посланника Иешуа, который передал через него свой вердикт о «свете» и «покое». Все это так… Но давайте теперь посмотрим на эту ситуацию через призму того, что автором концепции о «свете» является все-таки не Иешуа, а Левий.
Заметили, внимательный читатель, как сразу вдруг рухнуло не вызывавшее до этого никаких вопросов толкование этого места в романе? Вот ведь что получается: либо Иешуа и в данном случае взял на идеологическое вооружение чужую концепцию из осужденного им же «пергамента», либо Левий Матвей, выступая якобы от имени Иешуа, выдал ее без его благословения. Иными словами, приписал Иешуа то, чего тот и сам не говорил, и не поручал ему передавать кому-либо от своего имени.
Можно видеть, что именно вторая посылка соответствует содержанию «ершалаимских» глав романа, в которых Иешуа категорически отрицает содержание «пергамента» Левия. Но, поскольку там речь о «свете» и «покое» не идет вообще, то вполне логично выглядела бы гипотеза о том, что, в соответствии с замыслом Булгакова, противопоставление этих понятий возникло не в евангельские времена и не в Святом Письме, а гораздо позже, в чьем-то толковании Евангелий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: