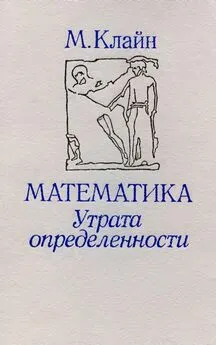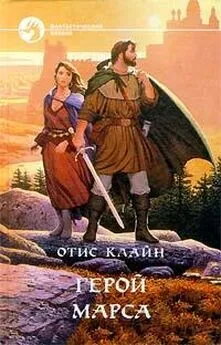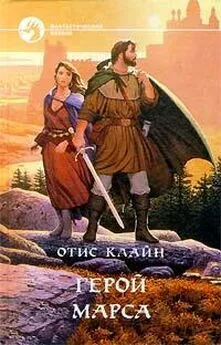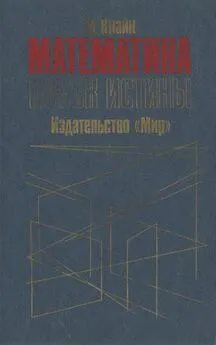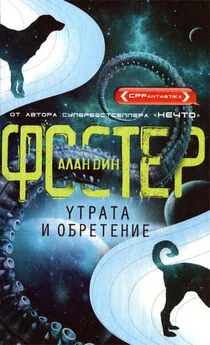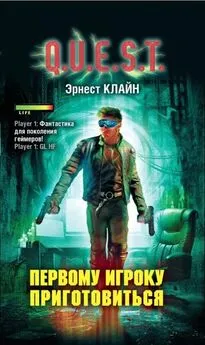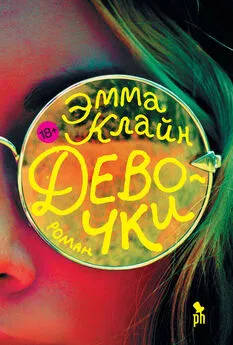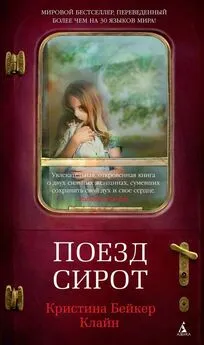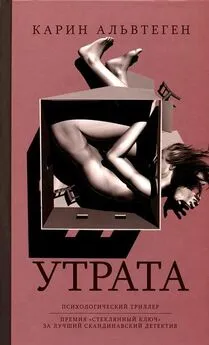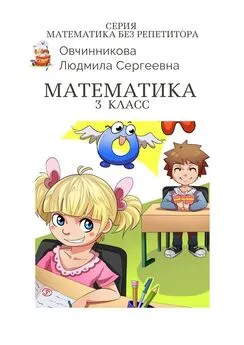Морис Клайн - Математика. Утрата определенности.
- Название:Математика. Утрата определенности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Морис Клайн - Математика. Утрата определенности. краткое содержание
Книга известного американского математика, профессора Нью-Йоркского университета М. Клайна, в яркой и увлекательной форме рисующая широкую картину развития и становления математики от античных времен до наших дней. Рассказывает о сущности математической науки и ее месте в современном мире.
Рассчитана на достаточно широкий круг читателей с общенаучными интересами.
Математика. Утрата определенности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, на любой вопрос о том, работает ли математика, мы можем с уверенностью дать положительный ответ. Гораздо труднее ответить на вопрос, почему она столь эффективна. Во времена античности и много столетий спустя математики считали, что знают верные приметы того, где следует искать «золото» (математика была сводом истин о физическом мире, и заложенные в ее основу логические принципы также были абсолютными истинами), и поэтому копали энергично, с размахом и настойчиво. Им удалось добиться замечательных успехов. Но теперь-то мы знаем, что они принимали за золото какой-то совсем другой, пусть даже и не менее драгоценный, металл. Этот «металл» позволял с замечательной точностью описывать явления природы. Вопрос о том, почему он служил так хорошо, требует особого рассмотрения. Действительно, почему некая независимая, абстрактная конструкция, плод «точной» мысли, должна соответствовать физическому миру человека?
Один из возможных ответов состоит в том, что математические понятия и аксиомы подсказаны человеку опытом. Даже законы логики человек заимствовал из опыта; поэтому они и согласуются с опытом. Но такой ответ чрезмерно упрощает суть дела. Разумеется, он позволяет объяснить, почему, прибавив к пятидесяти коровам еще пятьдесят, мы получим сто коров. В арифметике и в элементарной геометрии повседневный опыт может подсказать правильные аксиомы, и используемая здесь логика не выходит за рамки обычного здравого смысла. Но в алгебре, дифференциальном и интегральном исчислении, в теории дифференциальных уравнений и в других более «высших» областях математики были созданы математические понятия и методы, далеко выходящие за рамки повседневного опыта.
Помимо этих примеров «неэмпирической» математики необходимо также иметь в виду, что математическая прямая состоит из несчетного множества точек. В математическом анализе используется понятие времени, состоящего из мгновений, «спрессованных», как числа на вещественной прямой. Понятие производной (гл. VI) было навеяно физическим представлением о скорости за некоторый «бесконечно малый» промежуток времени; однако описывающая скорость производная соответствует мгновенной скорости, т.е. понятию, которое трудно признать интуитивно ясным. Разнообразие типов бесконечных множеств вовсе не подсказано повседневным опытом, тем не менее оно используется в математических рассуждениях, и так же необходимо для удовлетворительной математической теории, как физические тела для чувственного восприятия. Математика ввела в научный обиход такие понятия, как, скажем, электромагнитное поле, физическая природа которого полностью не ясна и по сей день.
Даже если законы логики и некоторые основные физические принципы выведены из опыта, в процессе длинного математического доказательства, требующегося для получения физически значимого заключения, эти законы используются однократно — и все наше доказательство опирается только на логику. Чисто математические рассуждения позволяют предсказывать некоторые явления. Так, на основе математического предсказания была открыта планета Нептун. Означает ли это, что природа подтверждает логические принципы? Иначе говоря, существуют ли (как угодно открытые) законы логики, которые говорили бы, как должна вести себя природа в тех или иных случаях? То, что целые теория, состоящие из сотен теорем и тысяч дедуктивных умозаключений об абстрактных понятиях, все же отклоняются от реальности не более, чем исходные аксиомы, убедительно свидетельствуют о способности математики описывать и предсказывать реальные явления с поразительной точностью. Почему длинные цепочки, чисто умозрительных заключений должны приводить к выводам, столь хорошо согласующимся с природой? В этом — величайший парадокс математики.
Итак, перед человеком стоит загадка двоякого рода. Почему математика безотказно, срабатывает даже там, где заключение, требующее сотен дедуктивных выводов, оказывается столь же применимым, как и исходные аксиомы, хотя физические явления описываются не на математическом, а на физическом языке? И почему математика эффективна там, где мы располагаем лишь непроверенными гипотезами о сущности физических явлений и где при описании этих явлений вынуждены почти целиком полагаться на одну математику? От этих вопросов нельзя бездумно отмахнуться: слишком уж многое в нашей науке и технике зависит от математики. Может быть, эта наука, хотя ее и используют как непобедимое знамя истины, одерживает свои победы с помощью какой-то таинственной внутренней силы и действительно наделена какими-то волшебными чарами?
Этот вопрос интересовал и продолжает интересовать многих. Неоднократно задавал его себе и Альберт Эйнштейн в книге «Вокруг теории относительности» (1921):
В этой связи возникает вопрос, который волновал исследователей всех времен. Почему возможно такое превосходное соответствие математики с реальными предметами, если сама она является произведением только человеческой мысли, не связанной ни о каким опытом? Может ли человеческий разум без всякого опыта, путем только одного размышления понять свойства реальных вещей?
…Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не точны; они точны до тех пор, пока они не ссылаются на действительность.
([126], т. 2, с. 83.)Далее Эйнштейн поясняет, что аксиоматизация математики сделала это различие очевидным. Хотя Эйнштейн понимал, что аксиомы математики и принципы логики выведены из опыта, его интересовало, почему длинная и сложная цепь чисто логических рассуждений, которые не зависят от опыта и используют понятия, созданные человеческим разумом без всякой апелляции к эксперименту и природным феноменам, может приводить к выводам, находящим столь широкие применения.
Современное объяснение необычайной эффективности математики восходит к Иммануилу Канту. Кант утверждал (гл. IV), что мы не знаем и не можем знать природы. Мы располагаем лишь чувственными восприятиями. Наш разум, обладая врожденными интуитивными представлениями о пространстве и времени, организует чувственные восприятия в соответствии с тем, что диктуют эти врожденные представления. Так, наши пространственные восприятия мы организуем в соответствии с законами евклидовой геометрии, потому что этого требует наш разум. Упорядоченные разумом, пространственные восприятия продолжают подчиняться законам евклидовой геометрии. Разумеется, Кант заблуждался, считая евклидову геометрию единственно возможной, но главное в его учении заключалось в другом: человеческий разум определяет, как ведет себя природа при неполном (частичном) объяснении. Разум формирует наши концепции пространства и времени. Мы видим в природе то, что предопределено нам видеть нашим разумом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: