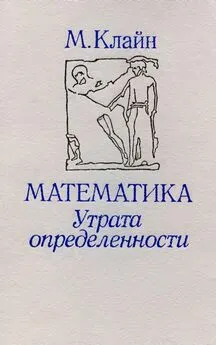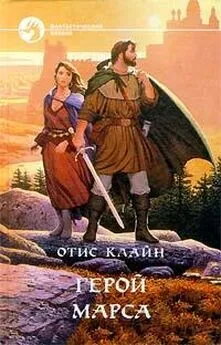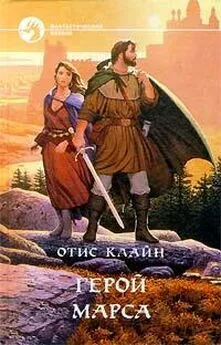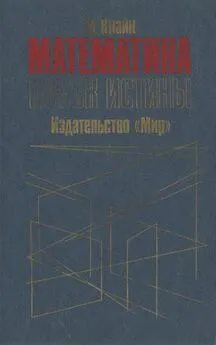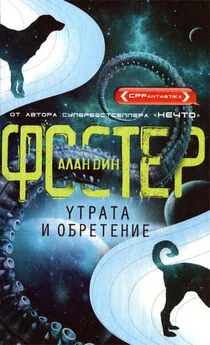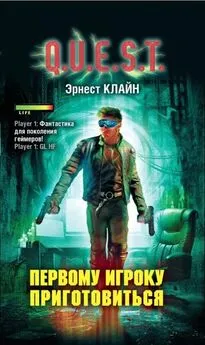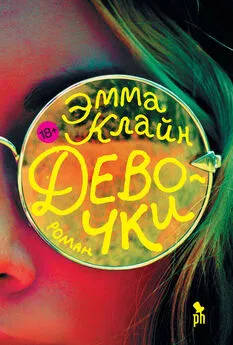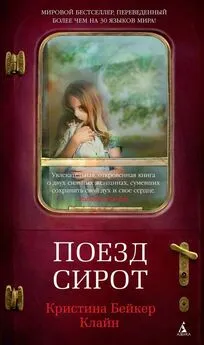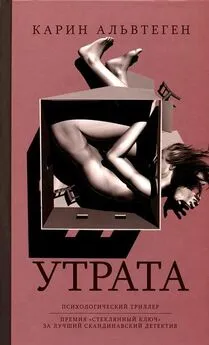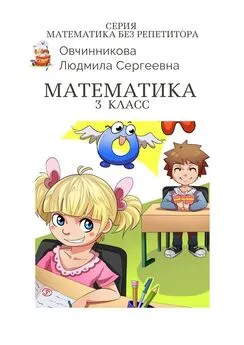Морис Клайн - Математика. Утрата определенности.
- Название:Математика. Утрата определенности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Морис Клайн - Математика. Утрата определенности. краткое содержание
Книга известного американского математика, профессора Нью-Йоркского университета М. Клайна, в яркой и увлекательной форме рисующая широкую картину развития и становления математики от античных времен до наших дней. Рассказывает о сущности математической науки и ее месте в современном мире.
Рассчитана на достаточно широкий круг читателей с общенаучными интересами.
Математика. Утрата определенности. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но в 1637 г., когда Декарт опубликовал свою «Геометрию», ни он сам, ни Ферма в работе 1629 г. (опубликованной посмертно) не были подготовлены к тому, чтобы принять отрицательные числа. Им обоим была ясна идея алгебраического подхода к геометрии, но ни тот, ни другой еще не представляли, сколь широки возможности такого подхода. Отрицательные числа были введены в аналитическую геометрию потомками Декарта и Ферма, и она стала играть весьма важную роль в главных событиях, происходивших в математическом анализе и в геометрии.
Представление функций алгебраическими формулами было вторым новшеством, выдвинувшим алгебру на первый план. Как известно (гл. II), идею описания движений с помощью формул выдвинул Галилей. Так, тело, брошенное вверх со скоростью 30 м/с, через t с будет находиться над поверхностью Земли на высоте h, определяемой формулой h = 30t − 4,9t 2 м. Из этой формулы с помощью чисто алгебраических средств можно извлечь неисчерпаемое количество сведений о движении: например, установить максимальную высоту подъема; время, необходимое для подъема на максимальную высоту; время, необходимое для падения с максимальной высоты на землю. Вскоре математики сознали могущество алгебры, которая заняла господствующее положение в математике, оттеснив геометрию на второй план.
Безграничное применение алгебры вызвало множество протестов. Философ Томас Гоббс был в математике величиной далеко не первого порядка, тем не менее именно он выразил мнение многих математиков, выступив с протестом против «несметного полчища тех, кто применяет алгебру к геометрии». Гоббс утверждал, что алгебраисты ошибочно подменяют геометрию символами, и отозвался о книге Джона Валлиса по аналитической геометрии конических сечений как о «гнусной книге», покрытой «паршой символов». Против применения алгебры выступали многие видные математики, в том числе Блез Паскаль и Исаак Барроу; при этом они ссылались на то, что алгебра логически не обоснована, и по той же причине настаивали на чисто геометрических методах и доказательствах. Кое-кто из математиков полагал, будто отступление на позиции геометрии позволит логически обосновать алгебру (как мы уже отмечали, подобная позиция была ошибочной).
Но большинство математиков свободно применяли алгебру в чисто утилитарных целях. Ценность алгебры состояла в том, что она равно хорошо (как и геометрия) позволяла решать все те задачи, с которыми сталкивались математики, а превосходство алгебры даже при рассмотрении чисто геометрических проблем было столь очевидно, что математики бесстрашно погрузились в ее воды.
В отличие от Декарта, считавшего алгебру служанкой геометрии, Джон Валлис и Ньютон полностью сознавали силу алгебраических методов. И все же математики весьма неохотно отказались от геометрических подходов. По свидетельству Генри Пембертона, выпустившего третье издание ньютоновских «Начал», Ньютон не только постоянно выражал свое восхищение древнегреческой геометрией, но и сетовал на себя за то, что не следовал примеру античных математиков в большей мере. В письме к Дэвиду Грегори (1661-1708), племяннику Джеймса Грегори (1638-1675), Ньютон заметил: «Алгебра — это анализ для неумех в математике». Но в своей «Всеобщей арифметике» (1707) он приложил максимум усилий, чтобы убедительно показать превосходство алгебры. Арифметику и алгебру Ньютон излагал как основу математики, обращаясь к геометрии лишь в тех случаях, когда ему требовалось доказать то или иное утверждение. Тем не менее в целом «Всеобщая арифметика» была не более чем набором правил. Утверждения о числах или алгебраических методах лишь изредка подкреплялись доказательствами или интуитивными соображениями. По мнению Ньютона, буквы в алгебраических выражениях означают числа, а в достоверности арифметики никто не может усомниться.
Лейбниц также отметил все возрастающую главенствующую роль алгебры и по достоинству оценил эффективность алгебраических методов. По поводу замечаний некоторых математиков о том, что алгебраические утверждения не подкреплены доказательствами, Лейбниц счел нужным заявить: «Геометрам нередко удается несколькими словами выразить то, что требует громоздких рассуждений в анализе… применимость алгебры не вызывает сомнений, но с доказательностью у нее не все благополучно». Работу в современной ему алгебре Лейбниц назвал «смесью удачи и счастливого случая». Однако Леонард Эйлер в своем «Введении в анализ бесконечно малых» (1748) открыто и безоговорочно провозгласил превосходство алгебры над геометрическими методами греков. К середине XVIII в. сдержанное отношение к применению алгебры было окончательно преодолено. К тому времени алгебра напоминала раскидистое дерево с множеством ветвей, но почти полностью лишенное корней.
Развитие числовых систем и алгебры разительно отличается от развития геометрии. К III в. до н.э. геометрия имела уже дедуктивный характер. Немногие обнаружившиеся в ней пробелы и изъяны, как мы увидим в дальнейшем, оказались легко поправимыми. Что же касается арифметики и алгебры, то они никогда не были логически обоснованы. Казалось бы, отсутствие логического обоснования должно вызывать тревогу у всех математиков. Как могли европейцы, до тонкости изучившие дедуктивную геометрию греков, принять и применять различные типы чисел и алгебру, никогда не имевшие логического обоснования?
Можно назвать несколько причин. Основой принятия целых чисел и дробей, несомненно, был накопленный опыт. Когда же числовая система пополнилась новыми типами чисел, правила арифметических действий, принятые на эмпирической основе для положительных целых чисел и дробей, были распространены на новые элементы, а в случае затруднений на выручку безотказно приходило геометрическое мышление. Буквенные символы лишь заменяли числа — и поэтому с ними можно было обращаться так же, как с числами. Более сложные алгебраические методы казались обоснованными либо с помощью геометрических соображений типа тех, которые в свое время использовал Кардано, либо — в отдельных частных случаях — с помощью одной лишь индукции. Разумеется, ни тот, ни другой подход не был логически удовлетворительным. Геометрия даже в тех случаях, когда к ней обращались, не позволяла логически обосновать введение отрицательных, иррациональных и комплексных чисел. По очевидным причинам решение уравнения четвертой степени невозможно обосновать геометрически.
Кроме того, сначала, особенно в XVI-XVII вв., алгебру не считали независимой областью математики, которая нуждалась в особом логическом обосновании. Алгебру принято было рассматривать как метод анализа геометрических задач. Многие из тех, кто широко использовал алгебру, прежде всего Декарт, считали ее не более чем методом анализа. Название сочинений Кардано «Великое искусство» и Виета «Введение в аналитическое искусство» свидетельствуют о том, что их авторы использовали слово «искусство» в смысле, встречавшемся иногда и в наши дни, — как некую противоположность науке. Название «аналитическая геометрия», закрепившееся за координатной геометрией Декарта, подтверждает отношение к алгебре как к методу анализа. Еще в 1704 г. Эдмонд Галлей в статье, опубликованной в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society, говорил об алгебре как об аналитическом искусстве. Но аналитическая геометрия Декарта стала, по-видимому, тем решающим доводом, который убедил математиков в могуществе алгебры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: