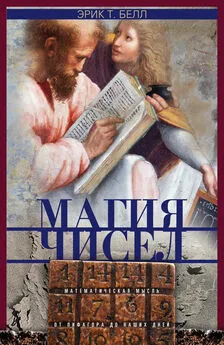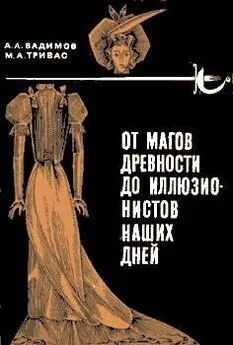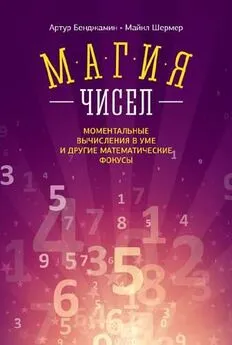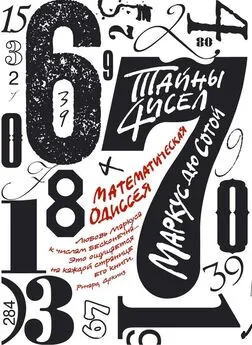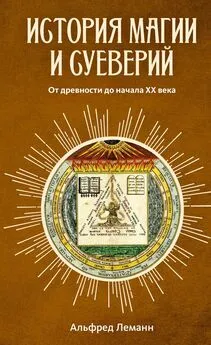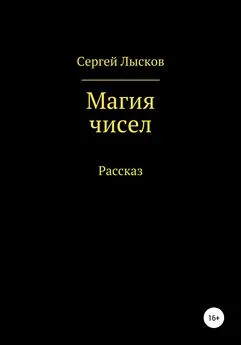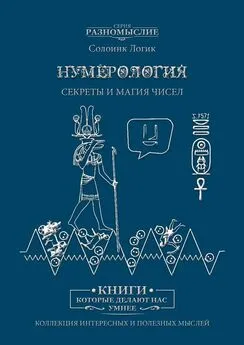Эрик Белл - Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней
- Название:Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5138-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Белл - Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней краткое содержание
Американский математик, исследователь в области теории чисел Эрик Т. Белл посвятил свою книгу истории происхождения математической мысли и разработки численной теории с момента ее зарождения в древности до современной эпохи. Обоснованно и убедительно автор демонстрирует влияние, которое оказала «магия чисел» на развитие религии, философии, науки и математики. Э.Т. Белл рассматривает процесс превращения числа из инструмента счета в объект культуры, сформировавшийся в VI веке до н. э. в школе древнегреческого философа, мистика, физика-экспериментатора и математика Пифагора – главного героя его исследования. Основополагающим моментом учения великого ученого древности стала доктрина о том, что «все сущее есть число». Доктор Белл изучил развитие этой доктрины: ее упадок в XVII веке и блистательное возрождение в современной физике. Автор также представил и проанализировал труды таких гигантов математики, как Галилей, Джордано Бруно, Ньютон.
Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы вернуться на момент на Землю прежде, чем покинуть элементы навсегда, запомним деталь доказательства пифагорейцев, что земля есть куб, что, кстати, вошло в нашу повседневную речь. Земля есть «квадрат». Почему? Потому что у нее четыре кардинальные точки, и линия, соединяющая север и юг, пересекает линию, соединяющую восток и запад под прямым углом, опять квадратный феномен, и поэтому справедливо, поскольку 4 есть божественная справедливость Единицы.
Покидая Землю и все ее элементы, последуем за Пифагором в более высокие сферы небесных тел, чтобы приобщиться вместе с ним к части той небесной гармонии «музыки сфер», которая подбадривала Кеплера в самые мрачные часы бедности, домашней трагедии, травли и двадцати одного года подавления, когда он считал, считал, считал, чтобы открыть законы планетарных орбит. Только пифагорейская уверенность в гармонии чисел во вселенной поддерживала его в перемалывании монотонной работы и подгоняла от одного разочарования к другому, пока наконец он не превзошел свои самые амбициозные надежды. Если нумерология доставляла удовольствие Кеплеру, ее стоит простить за любые шалости, что она с ним себе позволяла, пользуясь его упрямым легковерием.
Увидев раз, как закон музыкальных интервалов вдохновил Пифагора на философию чисел, следует посмотреть его глазами на полученную в результате музыку божественных декад. К своей радости по этому поводу, Пифагор открыл, что тетрады 1, 2, 3, 4 как таковые содержат небесную гармонию. Что до «октав» в нотах, то справедливо соотношение 2/ 1с их «пятой» в соотношении 3/ 2и с их «четвертой» в соотношении 4/ 3. Эти базовые, установленные опытным путем факты гармонии были открыты (возможно) передвижением клина монохорда и подергиванием различных долей струн.
Пифагорейцы, а после них Платон вывели из элементарной акустики: вселенная одушевленная и небеса с планетами и «зафиксированными» на сфере звездами есть число и гармония. Одной детали доказательства вполне достаточно для примера. Поскольку в музыкальной гамме Пифагора семь интервалов и поскольку на момент изобретения гаммы было известно всего пять подлинных планет, и потому что эти пять планет, если прибавить к ним Солнце и Луну, становятся числом семь, то, следовательно, планеты есть музыкальная гамма. Принимая во внимание фундаментальные постулаты учителя, что все сущее заключено в декадах и что «все сущее есть число», ни один логик или математик не стал бы спорить с доказательством Пифагора или Платона, если только он не имел намерения транспонировать их в символы, с которыми только он был знаком. Такого рода опыт убедит любого, что результат, достигнутый прямым математическим (или дедуктивным) доказательством, может не иметь отношения к миру научного или чувственного опыта или просто не отвечать здравому смыслу. Если постулаты не согласуются с проверяемым или уже проверенным опытом, выводы, основанные на них, не имеют значения в чувственном мире. Подобные утверждения, вне всякого сомнения, банальны, но от этого они не менее справедливы. Любой человек с рациональным мышлением принял бы их, однако многие рациональные ученые убеждали коллег принять фактически непроверяемые утверждения, потому что они были выведены с помощью безупречной логики, математической или иной, из допущений, которые рациональному мышлению нет нужды принимать.
Итак, нам придется опять воздержаться от презрительной усмешки в адрес науки и теологии наших предшественников.
Принимая сказанное во внимание, было бы крайне поучительно взглянуть на выводы, которые ученые мужи, чей интеллект был явно не ниже нашего, вывели из кругового движения планет. Начнем с Платона и его выводов, наиболее рафинированных из всех.
«Когда разум, – начинает Платон, – который занимается равными истинами как в круге Иного, так и в круге Такого же, в сфере самодвижущегося безмолвного движения тишины, когда разум, говорю я, находится вблизи восприятия, а круг Иного также движется по намекам разума для всей души, тогда появляются справедливые мнения и убеждения. Но когда разум попадает в зону рационального и круг Такого же, плавно продвигаясь, свидетельствует об этом, тогда образование и знания неизбежно совершенны». Все подобные утверждения поддаются прямому доказательству при допущении, что мы принимаем постулаты нумерологии пифагорейцев. Но все они потеряли ту значимость, которую когда-то могли иметь, возможно кроме чрезвычайно зачаточного описания движения планет. Тем не менее не все из подчеркнутых высказываний, сокрытых в совокупности мысленных образов Платона о сферах и движущихся кругах, утратили свое значение, когда мысль человеческая расширилась «солнечными процессами». Было бы интересно увидеть, какими могли бы быть некоторые предполагаемые факты в сокрытой астрономии метафизики Платона о «чувстве» и «разуме». Пифагорейцы отталкивались от наблюдения (возможно, теневых контуров во время затмения), что Земля есть сфера или как минимум закругленная. И это был предполагаемый факт, такой же старый, как само человечество, что звезды закреплены на поверхности широкой сферы с Землей в центре. В данном случае слово «чувство» (чувственный опыт), о котором говорил Платон, запутал разум. Никакой сферы нет, хотя чувственное, зрительное восприятие подтверждает это с такой же уверенностью, с какой астрономы, раздвинувшие человеческое видение с помощью созданных человеком инструментов, сообщают, что нет пределов по глубине «звездных небес». Тверже, чем сам Пифагор в своей вере в число, Платон пренебрег наблюдением в астрономии и вывел шарообразность Земли напрямую из допущения, что из всех тел совершенна только сфера. И подобным же образом он поступил с небесной сферой для звезд. Они обе должны быть сферами, что вытекает из того, что Единица, создатель небес и Земли, самим своим совершенством не может создать ничего несовершенного.
Пифагорейцы были не столь категоричны, как Платон, в пренебрежении индуктивным методом, основанным на чувственном восприятии. В центр своего космоса они поместили Гестию и ее Центральный огонь, чтобы распределить пламя и тепло на Солнце и другие планеты. Теперь это кажется достаточно наивным предположением. Но необходимо помнить, что надо было как-то пристраивать богов, а Гестия предложила именно то, что требовалось. Невидимый глазам простых смертных, Центральный огонь стал объектом размышлений бессмертных, видевших все, при этом оставаясь незамеченными. Отец богов и людей, следовательно, использовал Гестию как хранительницу смотровой башни, с которой можно было обозревать грешное человечество.
Хотя Гестия не была солнцем, как это могло поспешно показаться, этот гипотетический центральный очаг вселенной дал Копернику, жившему в 1473–1543 годах, толчок к его гелиоцентрической теории строения Солнечной системы. По крайней мере, он (или его любезный редактор) написал об этом в посвятительном послании тогдашнему папе римскому, возможно в попытке избежать порицания, подкрепив описание своего нововведения ссылками на Античность. Так Гестия, хотя и чистая выдумка, и слабая гипотеза, наконец оправдала Пифагора на суде науки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: