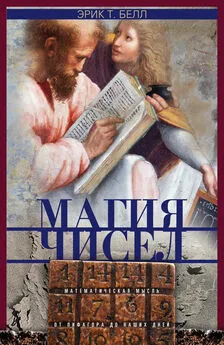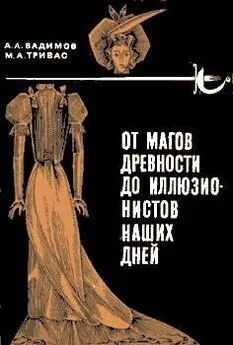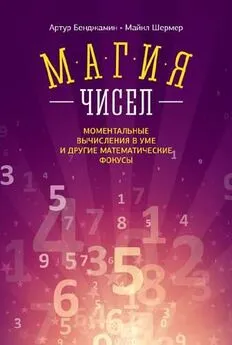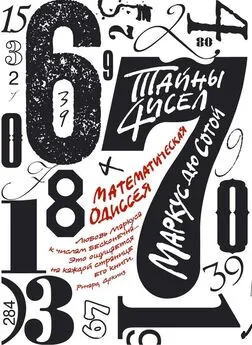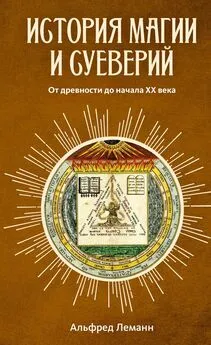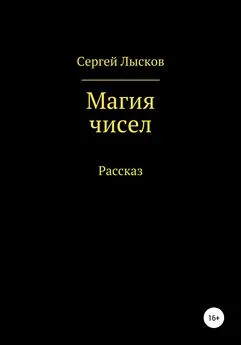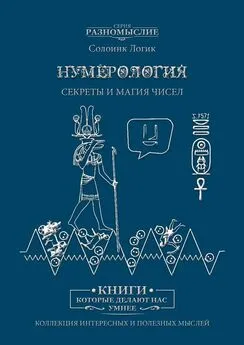Эрик Белл - Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней
- Название:Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5138-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Белл - Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней краткое содержание
Американский математик, исследователь в области теории чисел Эрик Т. Белл посвятил свою книгу истории происхождения математической мысли и разработки численной теории с момента ее зарождения в древности до современной эпохи. Обоснованно и убедительно автор демонстрирует влияние, которое оказала «магия чисел» на развитие религии, философии, науки и математики. Э.Т. Белл рассматривает процесс превращения числа из инструмента счета в объект культуры, сформировавшийся в VI веке до н. э. в школе древнегреческого философа, мистика, физика-экспериментатора и математика Пифагора – главного героя его исследования. Основополагающим моментом учения великого ученого древности стала доктрина о том, что «все сущее есть число». Доктор Белл изучил развитие этой доктрины: ее упадок в XVII веке и блистательное возрождение в современной физике. Автор также представил и проанализировал труды таких гигантов математики, как Галилей, Джордано Бруно, Ньютон.
Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Где значение водянисто, полемика течет рекой. Ретроспективно средневековая нумерология предстает как непрерывная и бесполезная борьба слов между неисчислимыми антагонистами, причем все говорят об одном и том же, но ни один не подразумевает то, что подразумевают все остальные. Споря формально или ожесточенно по поводу того, насколько та или иная нелепая трактовка какой-нибудь священной десятки или трижды священной девятки соответствовала подлинным пифагорейским принципам, разгоряченные дебатами доктора богословия упускали единственный вопрос, имевший хоть какое-то значение. Никто из них не прерывал обсуждение достоинств и полезности собственных головоломок хоть ненадолго, чтобы спросить себя, а имеет ли смысл сама нумерология. Видимо, в Средние века и не имела. Смысл, подобно красоте, возможно, был лишь вопросом вкуса для хлопотливых объединителей, согласовывающих случайные числовые совпадения в природе, философии и Священном Писании в единое всеобъемлющее и непостижимое. Когда европейским ученым стали доступны не только переводы Боэция, но и другие работы Аристотеля, пифагорианские числа, замаскированные великим натуралистом и логиком (четыре причины, четыре элемента, десять категорий), наложились своим изобилием на уже перенасыщенную неразбериху и сумятицу в умах.
Поскольку авторитет Аристотеля уступал одному лишь Священному Писанию, ни один из традиционных схоластов, богословов или ученых не посмел бросить вызов его логике и числовому объяснению вселенной, объединенным с христианской нумерологией и богословием, чтобы управлять разумом в двойном деспотизме. Перед ним преклонялись даже интеллектуалы уровня Альберта Великого (1193–1284) и его ученика, обладавшего сверхъестественной логикой, Фомы Аквинского (1226–1274). Их авторитетный пример определил основное направление развития европейской мысли, касающееся физической вселенной и места человека в ней, на три загубленных столетия.
Нет, экспериментом не совсем пренебрегали даже в наи менее научные десятилетия тирании «чистого разума». Но это были бессистемные, эпизодические и, за редким исключением, незначительные и по количеству, и по качеству эксперименты. Противостоя потоку слов сотен крас норечивых логиков и говорливых нумерологов, решающих все вопросы мироздания единственно умозрительно, европейская наука сделала все, что смогла, дабы остаться на месте, а не оказаться смытой этим потоком назад в каменный век. Даже Роджера Бэкона, нависавшего над потоком, подобно Гибралтару, в итоге все же накрыло с головой потоком, и, хотя он не был смыт, его предали забвению до тех пор, пока люди в буквальном смысле не пришли в чувство. Пользуясь руками и глазами, они обнаружили, что все это наводнение трижды дистиллированного умствования оказалось лишь дурным сном, который внезапно исчез на заре современной науки.
Отголоски грядущего, вполне доступные для сегодняшнего восприятия, есть в жизни и трудах Бэкона (1214–1294), его более знаменитого соперника на право оставаться в памяти потомков – Данте Алигьери (1265–1321). Современники на протяжении почти тридцати лет, Данте и Бэкон, были настолько противоположны друг другу, что вряд ли история знает подобные противоречия в одном и том же столетии, как в «золотом лете» Средневековья. Оба испытали много бед, и каждый придумал собственное «откровение», выразившее их мировоззрение. Поэт был столь же античен, как Пифагор, ученый столь же современен, как Галилей. Натурфилософия одного просуществовала около двух столетий, прежде чем была похоронена навсегда, философия другого проспала почти три века, прежде чем по-настоящему возродилась к жизни. Данте – олицетворение Средневековья; Бэкон – бестелесный дух века современной науки. Ни тот ни другой не был признан современниками за то, чем был на самом деле, и еще меньше за то, кем ему предстояло стать. Данте достиг быстрой и прочной славы. Бэкону пришлось довольствоваться утешением пустой чести оказаться тем, «кем мог бы стать», доведись ему родиться на три столетия позже. Помимо ученых, специализирующихся на изучении итальянской литературы, не многие знают сегодня что-нибудь из мистического научного суррогата Данте, и только редкие невежды верят хоть слову; в то время как миллионы, если не больше, живы только потому, что экспериментально-математическая наука, которую Бэкон слишком рано попытался преподавать миру, наконец была изучена и воспринята. Нумерология нашла в Данте своего поэта. Впутанный в флорентийские политические распри большую часть своей юности и преследуемый в изгнании в молодости, Данте все же нашел время, чтобы создать одну из величайших поэм мира и стать настоящим ученым в области философии, богословия, астрономии и физики своей эпохи. Непревзойденный и безупречный художник и знаток нумерологической мистики, он не знал себе равных. Если что-нибудь совершенное и суждено было сотворить из нумерологии, Данте это оказалось по силам. И он сотворил «Божественную комедию». Данте сам был предельно пропитан мистицизмом как античной, так и средневековой нумерологии, и вряд ли бы ему удалось избежать отражения тайной философии небес и ада в символике чисел, даже если бы он пожелал скрыть свое мастерство. Но он намеренно выбрал средство, осознавая, что столь же осведомленные, как и он, люди обязательно найдут более глубокий смысл, спрятанный за числами в его «Божественной комедии». На самом деле особых знаний и не требовалось, чтобы проследить за скрытым взаимодействием богословия, человеческой и божественной любви и средневековой космологии в «ангельской девятке», взаимосвязанной с «загадкой» Беатриче. Все, кто приобрел хоть какое-то образование во времена Данте, были знакомы со священным смыслом единицы, тройки и трижды взятой тройки, так же как дети предыдущего поколения нашего времени были знакомы с таблицей умножения. Для ученых античная нумерология, сплавленная с новой, означала праздник чистого разума, ну а для необразованных это была пища (возможно, не без добавления яда) для души. Богатые и бедные знанием, для которых творил Данте, умерли вместе со Средневековьем. Нумерологическая символика, в которую он вкропил свое повествование с непревзойденным мастерством, давно потеряла свое значение, осталась одна поэзия. И все же, не сверял бы Данте сознательно свою поэзию с числовым эталоном, который сейчас не имеет для нас никакого смысла, кто знает, не была бы она сегодня неудобочитаема.
На полном контрасте с достигнутым успехом Данте, полная обманутых надежд жизнь Роджера Бэкона отражает конфликт XIII века между «двумя мирами, одним уже мертвым, другим – не имеющим сил родиться». Такова, и об этом надо предупредить с самого начала, только одна из двух современных оценок жизни Бэкона. По всей видимости, так думает большинство современных ученых, знакомых с существенной для нашей темы частью работ Бэкона и с теми деталями его жизни, которые являются бесспорными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: