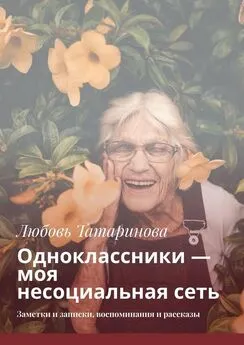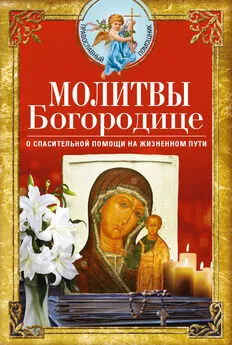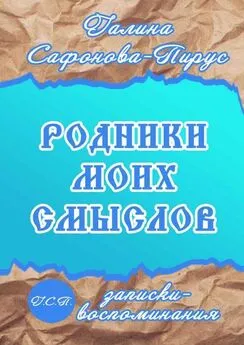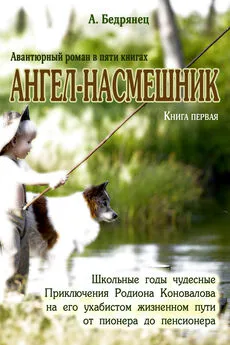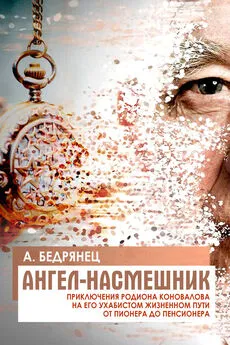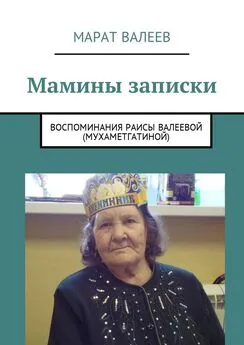Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Название:Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5981-87362-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути краткое содержание
Для специалистов различных отраслей медицины и всех, кто интересуется историей науки и истории России XIX–XX вв.
Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Больницы для судорабочих на канале Петра Первого в Новой Ладоге находились рядом с домом, в котором я сразу по приезде поселился у некоей Марии Андреевны. Здесь я прожил весь срок своего пребывания в городе. В мае или начале июня 1896 г., когда моё внимание было сосредоточено на заболеваниях натуральной оспой, меня позвала одна женщина посмотреть её тяжело больную оспой дочь. В то время в самой Ладоге, по данным врача городского участка, заболеваний оспой уже не числилось. В очень убогой обстановке, в комнате почти без мебели, на деревянной кровати лежала девочка лет десяти. Уже второй день она не могла говорить. Оспенная высыпка на всём теле и, особенно на лице, слилась и налилась кровью. Больная трудно дышала. Я попытался осторожно очистить ей полость рта и нос от запекшейся крови. Слизистая глотки от высыпки была отёчна и кровоточила. Это был уже не первый случай «чёрной» геморрагической оспы, который я видел в эту эпидемию. Все случаи описаны мною в статье «К эпидемиологии натуральной оспы», напечатанной в «Вестнике общественной гигиены» (№ 8 за 1897 г.). Я был убеждён, что больная уже находится в бессознательном состоянии от асфиксии и старался утешить мать, горько страдавшую при виде умирающей дочери. Девочка повернула своё лицо к матери и перекрестилась. Осторожно очистив рот больной пальцем, я затем случайно слегка оцарапал его занозой в изголовье кровати. Придя домой, я промыл царапину карболовым раствором. Через несколько дней я должен был уехать в одну из дальних волостей и пробыл там, занятый санитарными осмотрами, два-три дня. На возвратном пути я заболел. Поднялась сильная головная боль, жар. Приехав домой, я слёг. Позванный врач заявил, что пока сказать что-либо определённое о моей болезни нельзя. Тревожно было, что заболевание началось как раз на 11–12-й день после моего посещения больной девочки, которая вскоре умерла. На второй и третий день температура у меня поднялась выше 40 градусов, я впал в забытье. Когда дня через два пришёл в сознание, у моего изголовья сидела одна из лекарских помощниц из больницы для судорабочих, В. Г. Косарева. От неё я узнал, что у меня был участковый врач, когда вечером накануне появилась густая точечная высыпка, и признал заболевание натуральной оспой. Но к утру вся высыпка побледнела и исчезла. Для меня было несомненным, что у меня было абортивное заболевание натуральной оспой, сорванное действием прививок, которые я делал себе несколько раз, пока имел дело с оспенными больными.
Глубокой признательностью был я проникнут к лекарской помощнице, продежурившей около меня неотлучно два или три дня, пока я не пришёл в сознание. С этого началось моё знакомство со студентками, работавшими в больницах для судорабочих.
В то же лето 1896 г. я заинтересовался обследованием положения рабочих на плитных ломках, расположенных на берегах Волхова от Старой Ладоги до Дубровки. Эта работа была отражена в моём докладе на губернском съезде врачей, а затем и в статьях, напечатанных в журналах «Новое слово» и «Жизнь» [49] Литературно-политические журналы сначала либерально-народнического направления, а с 1897–1898 — органы «легальных марксистов». В них печатались также Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, сотрудничал М. Горький.
. Основная занимавшая меня мысль, вытекавшая из наблюдений над плитоломами, выражена в одном из положений моего доклада: «Если машина при капитализме обращает рабочего в придаток к машине, то отсутствие машин обращает в машину самого рабочего».
Немало лет прошло с тех пор, как ездил я по берегам Волхова, как ходил по крутым спускам, обследуя условия работы, труда и отдыха, быта плитоломов. Я вымерял «очисты» и вынутую плиту. Рассчитывал в кубометрах и тоннах огромные массы передвинутых мышечными усилиями плитоломов тяжестей, поднятых на 10–15 метров со дна скрытых «очистей» на высоту уступов, где складывалась плита или производились отвалы «фризы» и земли. Я старался составить себе хоть в самом грубом приближении представление о некоторой части затрачиваемой людьми энергии на этот титанический сизифов труд, чтобы выяснить, какое количество калорий должно было усваиваться и сколько фактически усваивалось плитоломами из их ежедневного пищевого пайка. При полном отсутствии механизмов, приводимых в движение за счёт использования природных источников энергии, единственным источником энергии была та часть переваренной и усвоенной пищи, которая затрачивалась плитоломами на мышечную работу. Переварить эту пищу, выработать из неё поражавшие своими размерами количества живой энергии для совершения чисто механической работы — это была существенная часть производственной техники в плиточном промысле. Но было также ясно, что рабочие служат своему хозяину-нанимателю не только тогда, когда они принимают пищу в обед и ужин, но и когда усваивают её в часы отдыха и сна. Я и сформулировал это в выводных положениях своего очерка «Санитарно-экономическое положение плитоломов»: плитолом работает на своего хозяина и тогда, когда он спит или отдыхает. Отсутствие машин в плиточном промысле принижает рабочего до состояния простого механизма для выработки нужной хозяину промысла механической энергии.
Рядом, непосредственно мимо «очистей» и плитных ломок с гулом и грохотом проносились и бились в Волховских порогах неисчислимые количества необходимой энергии, которую человек мог бы покорить себе силой своего ума и тем освободить себя от рабского приниженного положения, а свои силы направить на высшее проявление человеческой мысли, культуры, науки. Тогда же обо всём увиденном я писал: «На расстоянии нескольких вёрст тянутся целые горы выломанного плитняка, их гребни поднимаются на 10 сажен, за ними виднеются горы вывезенной из „очистей“ земли. И вся эта гигантская работа совершена не титанами, не механизмами, а мускульной силой рабочих. Издали доносится гул бьющегося в порогах, низвергающегося с них Волхова. Мощно и стремительно несётся он у самых ломок, но вся эта вольно и бесплодно уносящаяся энергия падающей воды не покорена ещё человеком, не поступила ещё к нему на службу, не выполняет за него всей его тяжёлой, чёрной, грубо механической работы, выпадающей здесь на долю рабочих, выполняемой ими примитивными орудиями».
Только после Октябрьской революции сбылись тогдашние мои мечты. Когда я сейчас пишу эти строки, нередко передо мной встают картины прежнего Волхова в его порожистой части — от Михаила Архангела и Званки вниз на 10–20 километров. Здесь Волхов пересекает мощные, многометровой толщины, слои девонской плиты. У самого уреза воды по узкому бечевнику плелись длинной цепью, одна за другой, впряжённые в лямки и хомуты лошади. Они тянули вверх, против бурного течения, мелкие суда паузки. Баржи ходили из Старой или Новой Ладоги до Ильи Пророка. Здесь кладь с них перегружалась на небольшие, легко управляемые паузки. Опытный лоцман проводил, лавируя между камнями, такую посудину через пороги. Её тянули лошади за верёвки, отходившие от толстого каната, привязанного к паузку. Каждая из верёвок оканчивалась хомутом. Паузки тянули десятки лошадей, погонщики не шли за ними по узкой тропинке бечевника, а сидели верхом. Вернее сказать, не погонщики, а погонщицы, ибо это всегда были молодые девушки — отважные, привыкшие к строгой дисциплине, к опасности и риску, девушки-амазонки. Каждая была вооружена острым ножом. Напрягая все силы, лошади преодолевали напор быстро несущейся воды. Медленно, под крики погонщиц и гул волн, продвигался вверх по течению между порогами паузок. Не всегда дело оканчивалось благополучно. Паузок мог попасть в слишком быстрый поток, непреодолимый для силы десятка или двух-трёх десятков лошадей. Их погоняют, побуждают… Ещё минута, другая — и паузок преодолеет поток, выйдет из смертельной опасности, но вот напор воды пересиливает, лошади начинают подаваться назад, ещё миг — и их втянет в воду, паузок понесётся вниз, его разобьёт в щепки, погибнут и все кони. Погонщицам нужно спастись самим и спасти лошадей. Если в такой момент хотя бы одна лошадь выбыла из строя, то и все остальные подверглись бы смертельной опасности быть втянутыми в кручу порогов. Нужно освободить лошадей от лямок, всех до одной единовременно, повинуясь мгновенно команде атамана. Раздаётся условная команда, и ножи всех амазонок-погонщиц, длинной лентой растянувшихся по линии бечевника, с силой, с размаху перерубают все верёвки сразу. Лошади освобождаются, они, как и погонщицы, спасены. Гибнет лоцман, в щепки разбивается паузок и на многие километры вниз по реке разметает по воде кладь, бывшую в нём. Товары подбирали и ловили далеко от места аварии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
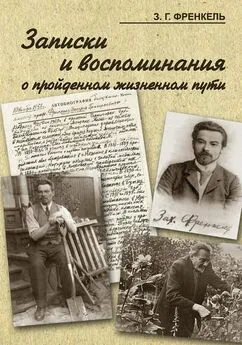
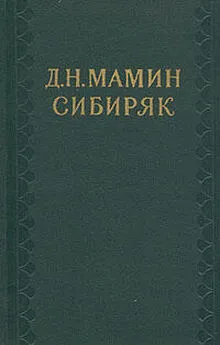

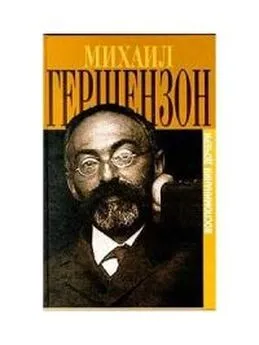
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/1060000/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie.webp)