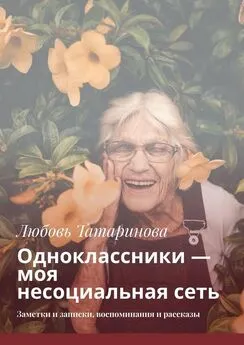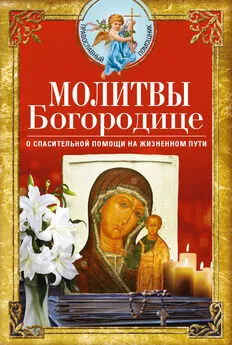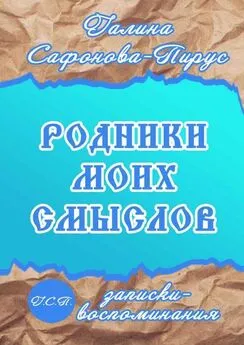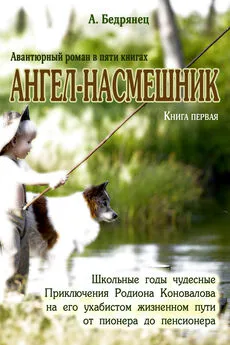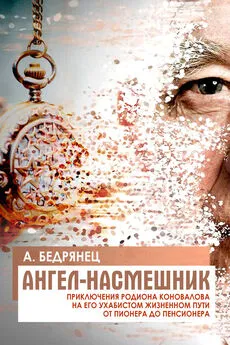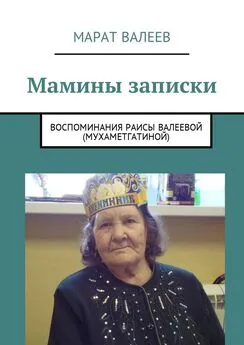Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Название:Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5981-87362-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути краткое содержание
Для специалистов различных отраслей медицины и всех, кто интересуется историей науки и истории России XIX–XX вв.
Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При глубоком снеге по узкой зимней дороге использовались почтовые сани, запряженные «цугом»: одна лошадь впереди другой. Спешившие в школу дети должны были залезать в снег, пропуская кибитку. С весёлыми шутками, с радостью забирались они ко мне в сани, заполняя их до отказа.
Ямщик не возражал и не ворчал, т. к. знал, что получит достаточную оплату от меня за это. В неумолчном говоре детей, из их ответов на мои вопросы я успевал узнать очень много о школе, о ходе занятий, об «учителке», обо всех школьных горестях, недостатках и нуждах. А потом нередко замечал, какое удивление вызывала у учительницы моя осведомлённость о делах в школе. До сих пор у меня оживает светлое чувство радости, когда вспоминаю эти утренние зимние поездки в школы отдалённых волостей, когда я подвозил детей, спешивших в школу из деревни за два, три, а то и за пять километров. Им всё хотелось осмотреть: мой походный ящик-аптеку, мой бинокль, в него обязательно и по несколько раз смотрел каждый из забравшихся ко мне в сани ребят. Расставались мы при подъезде к «ямской земской почте», а через час-другой встречались в школе большими друзьями.
Так же, как о делах в сельских школах, я заранее получал разностороннюю информацию из самых надёжных источников — от детей. Так много позднее — при моих экскурсиях и санитарных осмотрах отечественных и зарубежных городов — я, по старой своей новоладожской привычке, получал самые полные и ценные сведения о самом городе, его санитарном устройстве и достопримечательностях у всё знающей и всем интересующейся гурьбы уличных малышей.
За двухлетний период жизни и работы в Новоладожском уезде я не по литературе, не из бессмертных «Мёртвых душ» Гоголя и не из сатиры Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина хорошо и всесторонне узнал нескончаемую галерею типов дореволюционной России, как до-, так и пореформенной: помещиков разных формаций (Зеленин, Шаховская, Исполатовы и Демор), купцов-лесопромышленников, спаивавших шампанским уездного исправника, и наезжавших из губернии чиновников. Наряду с типом уездного врача С. В. Плаксина я узнал и земских врачей северных губерний…
Удивительным образом в Новоладожском уезде 1896–1898 гг. сохранялись в неприкосновенности нравы дореформенной России. Исправник, получавший по службе годовой оклад жалования не более 1500 рублей, все жаловался, нисколько не стесняясь, что ему не хватает его доходов в 8–10 тысяч рублей в год на жизнь! Эти вполне нормированные дополнительные доходы он получал при объездах крупных лесопромышленников, судовладельцев и купцов. От одних при его посещении или приезде пообедать он получал в конверте «за визит» 500 рублей, от других — 200 или даже 100: «Звезда бе от звезды разнствует во славе».
Чиновника особых поручений, приехавшего от губернатора расследовать в Доможирове жалобу на неправильность сдачи с торгов в аренду волостью рыбной ловли, принимал и кормил обедом ответчик, рыбопромышленник, на которого и поступила жалоба; после «на счастье» своего гостя он вытащил невод с заранее подготовленными в нём лососями и осетрами. У озадаченного своим «счастьем» чиновника тут же купил его богатый улов за страшную сумму в 1000 рублей начальник судоходной дистанции Иорс, получавший оклад в 600 рублей. Этот Иорс устраивал балы для своих дочерей, обходившиеся ему не в сотни, а в тысячи рублей. Свои «доходы» он получал от перепродажи дров. С каждой баржи, гонки или дровника, проходивших мимо его квартиры, бросали к его ногам несколько полен. «С мира по нитке» получались сотни кубометров дров. Вот и обеспеченный доход!
Дружба с набивавшимися ко мне в кибитку школьниками закреплялась тем, что я раздавал им яблоки, которые возил с собой для питания в разъездах. Я брал хлеб и яблоки. Тогда в Новой Ладоге яблок в продаже не было, я получал их осенью и зимой посылками из дома, с Черниговщины. В деревнях Новоладожского уезда, в отличие от некоторых уездов Новгородской губернии, садов вообще не было и, угощая ребят, я убеждал их посадить яблони у себя возле дома. Сохранить до весны косточки из съеденных яблок и посадить их в землю, а когда деревца подрастут, привить их. Рассказывал, как это делается. Рассказывал, как сам, будучи в их возрасте, вместе с братом развёл целый питомник таких сеянцев, а теперь вот угощаю яблоками, выросшими на тех деревьях.
Непосредственное наблюдение тех трудностей, с которыми сталкивались дети при посещении школы, когда им приходилось добираться до неё несколько километров, а во время осеннего ненастья или зимних вьюг и морозов оставаться ночевать в самой школе на полу, побудило меня настойчиво добиваться организации в школах «горячего приварка» и устройства при школах хотя бы небольших оборудованных помещений для ночлега детей. На эти цели нужны были земские ассигнования и нужно было «мобилизовать» учителей, чтобы они, в свою очередь, привлекли к организации горячего питания родителей и местных жителей вообще. Сама собой возникла мысль обосновать необходимость горячих завтраков в сельских школах соображениями противоэпидемическими, для поднятия сопротивляемости детских организмов инфекции и привлечь к помощи санитарных попечителей.
Моё личное, можно сказать, вынужденное участие в родовспомогательной помощи в тяжёлых, часто уже запущенных случаях родов знакомило меня с совершенно безотрадным состоянием акушерского дела. В качестве первой меры казалось особенно важным открыть родильное отделение при Новоладожской больнице, но придать ему характер совершенно обособленного учреждения, чтобы устранить боязнь оказаться при родах в непосредственной близости от больных. Благодаря поддержке, которую встретила эта идея у заведующего Новоладожской больницей А. В. Мартынова [56] Мартынов А. В. (1868–1934) — известный хирург и учёный, автор многих новых методов операций («операция Мартынова» и др.).
, такой родильный приют в отдельном небольшом доме на больничной усадьбе был устроен в 1897 г. Работа этого приюта быстро наладилась и стала развиваться. В целом этот почин имел большое показательное значение, и получила признание необходимость при всякой земской больнице открывать родильный приют.
Странным образом с моей работой в качестве санитарного врача в Новоладожском уезде, в этом наиболее заброшенном и отсталом по развитию врачебно-медицинского дела уезде Санкт-Петербургской губернии, у меня связываются воспоминания о моей акушерской практике. В самой Новой Ладоге было только три врача: заведующий земской больницей — сначала это был доктор Марки, хороший специалист, не уклонявшийся в случае необходимости от оперативной помощи при родах; после него был мой товарищ по Московскому, а затем и по Дерптскому университету, хирург по специальности и оригинальный, своеобразный человек А. В. Мартынов; участковый врач, всегда бывший в разъездах и не пользовавшийся благосклонностью среди населения, немолодой уже Роте-Розен — большой барин, делавший из себя чиновника; и правительственный врач С. В. Плаксин, сносившийся с другими врачами официально — «за номером таким-то» и умевший так поставить дело, что когда за отсутствием всех врачей его звали на тяжёлые роды или к умирающему больному, уездного врача «дома не было, он уехал в уезд на судебно-медицинское вскрытие». В таких случаях встревоженная судьбой роженицы акушерка Софья Власьевна, исключительно душевный человек и опытная в своём деле, направляла гонцов или чаще прибегала сама за мной и требовала идти или ехать с нею, т. к. предстоит операция, а она делать её права не имеет. Разумеется, уклоняться было совершенно недопустимо, и приходилось по много часов, а то и целые сутки бывать на родах и в неизбежных случаях, например, при поперечном положении плода или при начавшемся кровотечении при предлежании детского места производить поворот на ножку. А однажды при запущенном поперечном положении с выпадением ручки пришлось прибегнуть даже к эмбриотомии [57] Удаление плода по частям через естественные родовые пути при невозможности родов естественным путём.
.
Интервал:
Закладка:
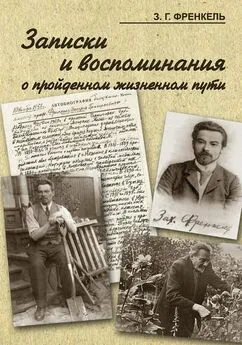
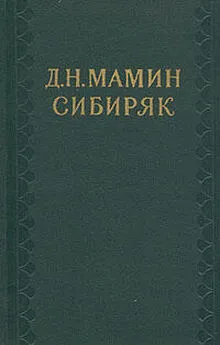

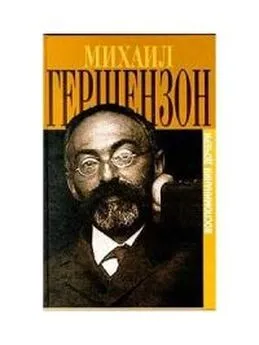
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/1060000/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie.webp)