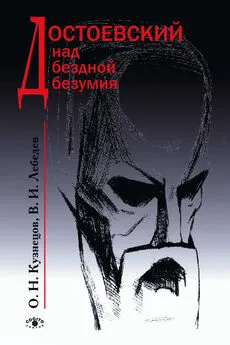Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия
- Название:Достоевский над бездной безумия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия краткое содержание
Научные интересы авторов этой книги - доктора медицинских наук, доцента О.Н. Кузнецова и доктора психологических наук, профессора В. И. Лебедева - сосредоточены в области экстремальной психиатрии, экстремальной психологии и изучения жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Анализируя художественные и публицистические произведения писателя, они обсуждают его представления о психическом здоровье и болезни, о динамике развития и взаимодействия этих состояний. Раскрывается содержание различных форм душевных расстройств, отраженных в его произведениях, социально-художественная содержательность терминов и понятий, использовавшихся писателем для обозначения психических феноменов.
Достоевский над бездной безумия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В осознании «скрепляющей идеи», подготавливающей к животворному слову, Аркадию помог разговор с самим собой. Записывая историю своих первых шагов на жизненном пути, он вдруг почувствовал, что «перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания» (13; 447). И если Аркадий еще только в начале движения к живому слову, то Алеша, главный герой намечаемого второго романа о братьях Карамазовых, в уже написанном гораздо дальше продвигается на пути к подвижничеству.
Для того чтобы стать целителем души, подвижник, решившийся на это, по мысли Достоевского, должен быть мудр умом и сердцем, овладеть животворным словом. В предыдущем разделе мы отметили, что этими качествами наделены монахи-советодатели и странники, своей мудростью напоминающие старца Зосиму и Макара Долгорукого. И хотя старцев разъединяют сословные, образовательные и монастырские иерархические различия, но объединяет возраст, спокойное отношение к приближающейся смерти, дающее возможность мудро обращаться к остающимся жить. В. Н. Захаров замечает о старце Зосиме: «Его слово – слово уходящего, благословляющего, наставляющего». [110]Объединяет старцев также опыт странствий и общения с народом. Все перечисленное в развитии старцев-подвижников, скорее, только намечено Достоевским. Трудно отделаться от мысли: не стилизованное ли это жизнеописание? Не является ли оно красивой легендой? Именно эта «иконопись» старца Зосимы позволила недоброжелателям романа изображать его иногда в карикатурном и, мы бы сказали, в лубочном виде.
Развитие Алеши Карамазова, одного из наименее определенно трактуемых образов Достоевского, проходит иначе. В «Братьях Карамазовых» чаще привлекают внимание более колоритные фигуры – Иван, Дмитрий, Федор Карамазовы, Смердяков, Снегирев и т. д. В качестве положительного героя Достоевского, безусловно, впечатляет князь Мышкин. Однако прав В. Н. Захаров, который утверждает: «Алеша не только „герой времени“, он еще и „сердцевина целого“ в системе образов романа». [111]Мы бы еще прибавили – «сердцевина» всего художественного творчества Достоевского, которое этот роман завершает.
Для понимания пути Алеши к животворной идее необходимо разобраться – самостоятелен ли Алеша в своих исканиях или он только ученик старца Зосимы? Достоевский поставил точные границы морально-этического влияния Зосимы, способного обнаружить назревающую трагедию психологического кризиса, передать своим последователям мораль в виде афоризмов и поучений, но неспособного предотвратить трагедии в жизни, противодействовать злу. Не только Достоевский хорошо осознает ограниченность возможностей Зосимы, но и сам Зосима понимает это. Поэтому закономерно его решение послать любимого ученика Алешу в мир.
Алеша часто рассматривается как самый статичный и беспомощный герой Достоевского. На наш взгляд, из всех положительных героев Достоевского он проходит наиболее сложный и вместе с тем последовательный путь нравственного развития. При этом он по сравнению с другими положительными героями Достоевского приходит к наиболее высокой стадии нравственно-этического развития.
Особенности Алеши Карамазова как нравственно развивающегося героя не сразу видны по сравнению с Аркадием Долгоруким. Последний активно живет, принимает самостоятельные решения. Несчастья, катастрофы, неосторожные слова и поступки переполняют его жизнь. В отличие от него Алешу все события, описанные в романе, в котором он является еще не «главным», касаются лишь опосредованно, за исключением эпизода с тлетворным запахом от трупа старца Зосимы. Во всех трагических эпизодах (убит отец, невинно арестован средний брат, старший сошел с ума) он не столько страдает, сколько сострадает. Аркадий развивается как личность по-детски непосредственно, рассуждает наивно и часто эгоистично, Алеша, наоборот, старается проникнуть в духовный мир близких и по мере возможности помочь им.
В сознании Алеши плюрализм мнений и идей его эпохи отражается преимущественно в беседах-исповедях тех, с кем он общался. Это исповедь горячего сердца Мити, бунт Ивана, притча о луковке Грушеньки, горестный рассказ Снегирева и, может быть, еще фантазмы Лизы Хохлаковой. Все перечисленное (сквозные хрестоматийные вершины) запоминается даже при первом чтении романа. Но как тонко в этих беседах, казалось бы, пассивный Алеша проникает в душу собеседников и, не осуждая их, эмоционально откликается. Так, когда Митя предстал в своей исповеди как «сладострастное насекомое», Алеша покраснел, объяснив, что покраснел «за то, что я то же самое, что и ты... Все одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху... но это все одно и то же, совершенно однородное» (14; 101). После того, как Иван рассказал брату о помещике, затравившем собаками на глазах матери ребенка, и спросил его: «„Ну... что же его? Расстрелять?.. – Расстрелять!“ – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата» (14; 221).
В «коварной соблазнительнице» Грушеньке Алеша по рассказанной ею притче о луковке угадал «сестру искреннюю, нашел сокровище – душу любящую» (14; 318), поняв, что душа эта «еще не примеренная» и «в душе этой может быть сокровище...» (14; 321).
Сразу после «надрыва» Снегирева, закончившего рассказ о трагедии сына, Алеша, «у которого душа дрожала от слез», воскликнул: «Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком!» (14; 190).
И, наконец, на злые фантазии парализованной Лизы, Алеша, понимая ее сокровенные мысли, говорит: «Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата...» (15; 22).
Эта способность Алеши чувствовать и понимать других людей называется эмпатией. К. Роджерс, один из основателей американской гуманистической психотерапии, наиболее близкой к способу психического воздействия Алеши, считал: «Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения „как будто“ (ощущаешь радость, боль другого, как он их ощущает, воспринимаешь их причины, как он их воспринимает)». Эмпатический способ общения одного человека с другим имеет несколько граней. Одна из них подразумевает вхождение в мир другого (пребывание в нем, «как дома») и постоянную чувствительность к его меняющимся переживаниям, или временную жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценки и осуждения, «...улавливание того, что другой сам едва осознает». [112]
Эмпатия Алеши, видимо, развилась в период его послушничества. Но до смерти Зосимы Алеша находится под сильным влиянием старца, которое в определенной степени мешало формированию его собственного оригинального мироощущения. Поворотный момент в его развитии произошел после появления «тлетворного духа» (запаха от трупа старца). Разрушилась слепая вера в исключительную «мистическую» предопределенность Зосимы на обладание абсолютной истиной, исключающей необходимость учета других мнений и собственных исканий. Душевный кризис Алеши разрушил культ Зосимы, столь долго стоявшего «перед ним как идеал бесспорный, что все юные силы его... не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно... до забвения „всех и вся“... И вот тот, который должен был... быть возвеличен превыше всех в мире... – вместо славы, ему подобавшей, вдруг низвержен и опозорен» (14; 306–307). Не мог потрясенный такой несправедливостью позора Алеша вынести без оскорбления, что праведнейший из праведных предан на злобное глумление «ниже его стоящей толпе» (14; 307).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



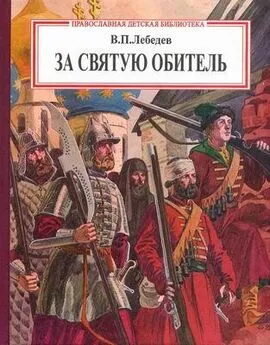
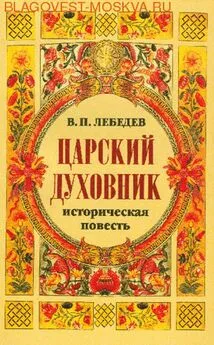
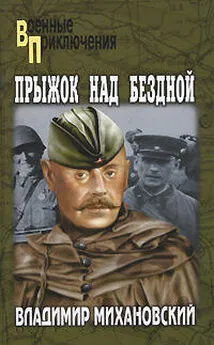

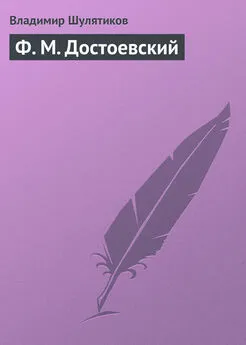
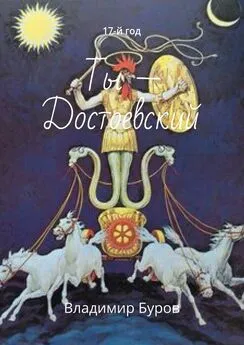
![Владимир Белобородов - Сорвать цветок безумия. Империя рабства [СИ]](/books/1100563/vladimir-beloborodov-sorvat-cvetok-bezumiya-imper.webp)