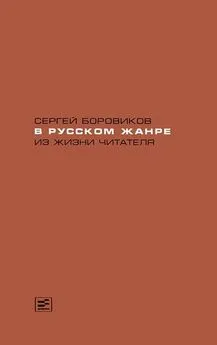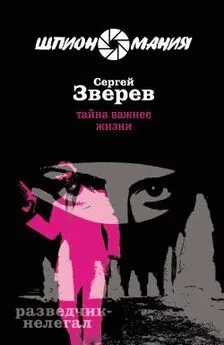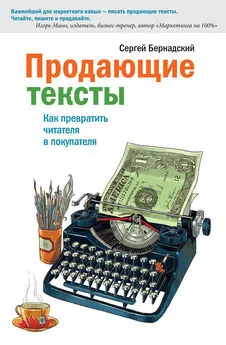Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рассказ «Заблудшие» (1885): подвыпившие приятели, заблудившись в дачном лесу, попадают вместо дачи в чужой курятник. А ведь вместе с ещё несколькими, тогда же написанными в июле 1885 этот пустяк — близкий родственник «Егеря» и «Злоумышленника».
В этих рассказах Чехов-Чехонте делает пробу: весь текст, всё действие от первой строки до последней дать в настоящем времени: подходит, останавливается, думает, говорит, слышит и т. д. Так писать очень трудно, и Чехову явно интересно справиться с задачей, что он блестяще исполняет. И в дальнейшем у него присутствовало трудное настоящее время для сказуемых («Панихида» и другие), однако здесь явный опыт, и, как положено опыту, требующий стопроцентной чистоты эксперимента: ни одного глагола в прошедшем времени.
«…водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря…» («Неприятность», 1888).
То была одна из его назойливых тем: напрасной жизни. Он подходил к ней с другой и с третьей стороны, и везде прорезывались (порой очень похожие) слова о гибельности безволия, о пагубности привычки, безысходности того, что называют нормальным течением жизни. Сюда же едва ли не главным жупелом входила и принципиальная неестественность семейной жизни. Последнее, думаю, и привлекало особенно в Чехове Льва Толстого.
Слова назидания профессора Серебрякова: «Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!» в контексте пьесы звучат пошлостью, но сам Чехов в разных формах, так же как Серебряков, порицал и назидал. Пожалуй, два человеческих изъяна особенно нетерпимо воспринимались им, что отразилось во многих сочинениях: бездарность и праздность. Они часто совпадают в персонажах, вроде художников из «Таланта», всё собирающихся нечто создать, прославиться, разбогатеть. Не только лень, но и транжирство, неуменье сохранить нажитое предками ненавистны писателю.
В «Драме на охоте» целая страница посвящена обличению графа, запустившего имение. А некто Панауров («Три года», 1895) «никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, всё-таки прожил своё и женино состояние и наделал много долгов», точь-в-точь князь («Пустой случай», 1886): «В карты он не играл, не кутил, делом не занимался, никуда не совал своего носа и вечно молчал, но сумел каким-то образом растранжирить 30–40 тысяч, оставшиеся ему после отца». Словом, у Чехова это как бы общее место, едва ли не штамп.
Тогдашние новые русские тоже занимали его.
Есть у него, конечно, и традиционный купец-самодур: «Маска» (1884), «Дочь коммерции советника» (1883) и другие. Но купец он на то и купец, а у Чехова безобразничает в ресторане, бьёт посуду и заставляет ресторанного гитариста пить смесь водки, вина, коньяку, соли и перца фабрикант наиновейшей формации («Пьяные», 1887).
«Святая простота» (1885): старенький священник отец Савва не допускает, что рассказы приехавшего из Москвы сына, модного адвоката, могут быть правдой — как прокутил дом, как разводился с женой за десять тысяч, как заплатилв театре полный сбор и смотрел спектакль при пустом зале (случай, бывший со знаменитым Плевако).
Но чаще Чехов изображал богатых и, казалось бы, всемогущих людей как несчастных, страдающих, деликатных, вовсе не наслаждающихся властью денег, предающихся рефлексии, таких, как купец Лаптев («Три года», 1895), владелица фабрики Анна Акимовна («Бабье царство», 1894). Чехов увлекает читателя за собою в закрытый мир богатых, чтобы разочаровать. Или он сам сперва уже решил разочароваться и взял читателя в спутники. Как бы то ни было, в милых, кротких, рефлексирующих богачей его веришь меньше, чем в дурящих.
В повести «Моя жизнь» (1896) разлад героя-дворянина с укладом своего круга, закончившийся разрывом и опрощением его, выглядит подобием социального протеста. Есть и это, но молодой человек бежит не только и не столько от несправедливости, сколько от бездарности отца, городского архитектора. Едва ли не главное место отведено уличению отца в профессиональной никчёмности: «Что это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние 15–20 лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. <���… > С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем». И наконец, поразительное место. Герой приходит к отцу с намерением помириться. «Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башнею, похожею на пожарную каланчу — нечто необыкновенно упрямое и бездарное. <���… >.. мне захотелось броситься к нему на шею… но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержали меня». Что такое «избранный» Чехов? Может ли быть избранный Чехов? При очевидной неровности уровня, особенно ранних рассказов, усекновение Чехова до хрестоматии с непременными «Ванькой Жуковым», «Толстым и тонким», «Унтером Пришибеевым» и «Смертью чиновника» представляет какого-то иного, не вполне подлинного Чехова.
Конечно, можно сказать, что подобное происходит с избранным каждого классика, но почему-то представляется, что сборник избранных рассказов и повестей даже Льва Николаевича, скажем, «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «После бала», «Холстомер», «Фальшивый купон», «Хозяин и работник» менее обедняет его как рассказчика, чем любое избранное Чехова. Причину я, кажется, понял: за Толстым-рассказчиком встают романы, прежде всего «Война и мир», тогда как Чехов — весь в потоке рассказов и повестей.
Повести? Можно ли включить «В овраге» и «Палату № 6», но не дать «Мужиков» или «Мою жизнь» — или наоборот?
Чехов писал всю свою писательскую жизнь одну книгу, и сокращение её до избранного подобно печатанию выбранных глав из «Войны и мира», «Обломова» или «Идиота».
В «Новом времени» он дебютировал рассказом «Панихида» (1886). Как трогателен священник, как разлито религиозное чувство в этом рассказе! Вообще попы у Чехова чаще всего добрые люди, может быть, чересчур обыденные, но, во всяком случае, «не толстопузые».
1886 год — главный его год.
«Агафья», «Анюта», «Актёрская гибель», «Ванька», «Ведьма», «Гриша», «Детвора», «Житейская мелочь», «Иван Матвеич», «Лишние люди», «Муж», «Панихида», «Переполох», «Произведение искусства», «Пустой случай», «Святой ночью», «Скука жизни», «Тина», «Тоска», «Тяжёлые люди», «Хористка», «Художество».
Всё менее потешного. Чехов мрачнеет. Чехов просветляется. Чехов оборачивает ещё недавно очевидное в таинственное и далёкое.
Среди немногого, что мне решительно не нравится у него, рассказ «В море» (1883), публикации которого к тому же довольно странны.
Это первый рассказ, подписанный именем и фамилией. Напомню, что имеет он подзаголовок «рассказ матроса» и содержит скабрёзную историю с моралью в конце. На пароходе была каюта для новобрачных, и матросы, по «жеребию», сквозь дырочку наблюдали за ними. «Жеребий» выпал рассказчику и его отцу. Они наблюдают ужасную сцену продажи новобрачной со всеобщего согласия её мужем, молодым пастором, богатому старику банкиру. «Старик-отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: