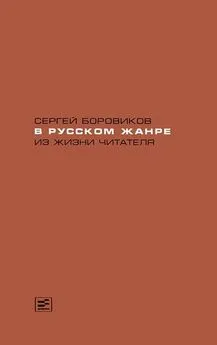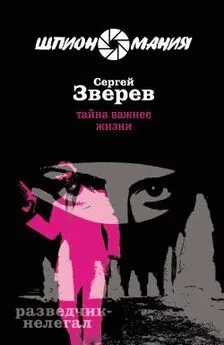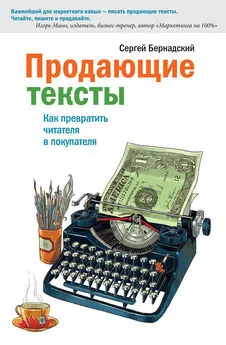Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и все русские литераторы, он презирал критиков.
Задета эта лишняя профессия и в сочинениях его. Критик Лядовский («Хорошие люди», 1886) изображён с насмешкой и прямо-таки монументально, то, что называлось собирательный образ: «Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил: «Нас немного!» или: «Что за жизнь без борьбы? Вперёд!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шёл вперёд». Критик хвалит рассказ из крестьянской жизни за верность правде, хотя понятия не имеет об этой жизни. Бунин вспоминал изумление Чехова по поводу признания Скабичевского, что тот никогда не видел ржаного поля.
Таков же профессор Серебряков, который «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Ровно двадцать пять лет он жуёт чужие мысли о реализме, тенденции и всяком другом вздоре… переливает из пустого в порожнее».
И даже убогий генеральский сынок Войницев в «Безотцовщине» (сыгранный в кино Юрием Богатырёвым) — филолог. Мачеха разговаривает с ним издевательски, как с дурачком: «Ты у меня молодец. Филолог, благонамеренный такой, ни в какие дела нехорошие не суёшься, убеждения имеешь, тихоня, женат… Коли захочешь, так далеко пойдёшь!»
Высказанное персонажами Чехова презрение к занятиям филологией концентрирует в себе общественное отношение. И в мои времена, да, думаю, и в иные, к парням-филологам отношение сверстников было насмешливым, вроде бы как здоровенный лоб увлекался вышивкой крестиком. То и дело обращаясь к теме творчества, художества, искусства, Чехов словно ищет ту золотую середину, которую можно было бы, пусть и с допусками и натяжками, но назвать чистым творчеством. Однако ж, если и возникает возможность такового, она тут же пресекается или обстоятельствами, или нежеланием. Рассказ «Открытие» (1886) — о том, как пожилой преуспевающий инженер вдруг открыл в себе талант художника и размечтался — «перед его воображением открылась жизнь, непохожая на миллионы других жизней… “Правы люди, что не дают им чинов и орденов… — подумал он”. Но вспомнив, что избранность творца идёт об руку с нищетой, голодом, унижением, он решает: “Хорошо, что я… в молодости не тово… не открыл”, “…имя поэта или художника пользуется почётом, но от этого почёта ему ни тепло, ни холодно… Имя в почёте, но личность в забросе…”».
Нищей, унижаемой, отверженной становится Нина Заречная. Ей так же хотелось необыкновенной избранной судьбы творцов искусства, как и Треплеву. Но талант дан почему-то Тригорину, который, не кокетничая, говорит, что живя на берегу озера, он поборол бы в себе страсть к писанию и только бы удил рыбу. Успех — по Чехову — не у тех, кто желает его, особенно страстно, но у тех, кто награждён талантом и неутомимо, может быть, даже туповато, трудится. И — неважно, что он за человек. Наделён талантом «куцый Серёжка» («Художество», 1886), делающий на речке Быстрянке Иордань: «Серёжка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга».
Чехов во все времена снисходителен к тем, кто владеет и распоряжается даром: пусть будет профессионал. Он снисходителен даже к цинизму в работе, но не к имитации творчества. Субъект, подобный герою «Тссс!…», не раз является у него, притом и Антон Павлович не только смеётся, но даже — что у него редкость — предаётся прямым обличе-ниям, настолько ненавистен ему этот тип: «…вот стоит нарядившийся талантом. <���… > Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду суёт свой нос, всюду нюхает, везде вертится, как чёрт перед заутреней. Его выносят, не гонят потому, что на безрыбье и рак рыба, и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды».
И вновь это слово, уже в заглавии, и опять Чехов сперва насмехается, а потом обличает: в рассказе «Талант» (1886) художники, необразованные бездельники и пьяницы, живут бесплодными спорами об искусстве да мечтами о создании какой-то необыкновенной работы, приносящей славу и деньги, им «не приходит в голову, что время идёт, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а ещё ничего не сделано».
«…талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2000000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается» (Н.П. Чехову, 1886).
Что Чехов зачаровал последующих писателей, несомненно. Никто не повлиял так на русских рассказчиков в XX веке, как он.
Но чем зачаровал, а кого-то просто и погубил Чехов?
Главным образом интонацией, мелодией текста. В повестях и рассказах 90-х годов у него возникает меланхолическая мелодия редкой, покоряющей силы. Особенно она наглядна в «Анне на шее» (1895).
Завораживающая сила интонации возникает в мерном летописном воспроизведении событий, словно бы утверждается: так было, так есть и так будет, и не надо особенно волноваться, возмущаться или надеяться. Особую роль играет наречие уже. Из малозаметного вспомогательного слова оно становится ведущим. Цитировать бесполезно — то есть не наглядно, так как рассказ короткий, а фраз со словом «уже» столько, что, подчёркнутое, оно пестрит страницы: на двенадцати страницах употреблено 25 раз!
Этим «уже» Чехов заразил Бунина. «Тёмные аллеи» пронизаны этим «уже».
Все «Тёмные аллеи» вышли из рассказа Чехова «Шампанское» (1887). Рассказ о мгновенной, как солнечный удар, любви, перевернувшей жизнь героя. Страсти безумной, которую герой-рассказчик и описывать полагает излишним, предлагая взамен строки романса «Очи чёрные». А вот «Шампанского» финал: «Всё полетело к чёрту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как пёрышко. Кружил он долго и стёр с лица земли и жену, и самую тётю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту тёмную улицу.
Теперь скажите: что ещё недоброе может со мной случиться?»
Но одновременно с «Шампанским» он пишет и печатает вполне «будильниковскую» «Новогоднюю пытку», и трогательно-сентиментальный рассказ «Мороз», и социальный, публицистически очищенный от художества рассказ «Враги», и бессмертное «Беззащитное существо».
Бунин же выдавал один за другим, и всё в духе «Шампанского», о «страшном вихре» любви. Лишь звуки, цвета, ощущения, запахи женщин, птиц, ветров, трав, коньяков, купе, сёдел и т. д. — только этот наслушанный, нанюханный, натроганный жизненный опыт вносит Иван Алексеевич в открытое Чеховым об ужасе плотской любви и смерти.
Первая фраза повести «Три года»: «Было ещё темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна» — стала считаться «узаконенной ошибкой» Чехова. Никакой ошибки нет: да, темно, но уже возник свет от огней и луны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: