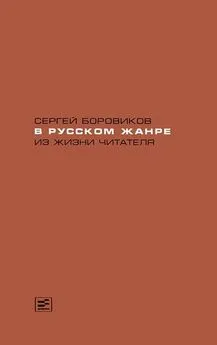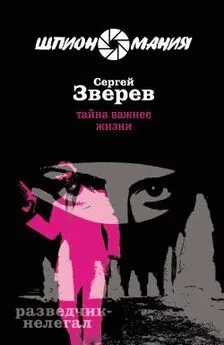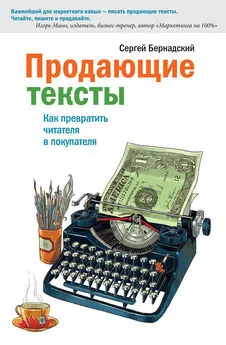Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэтессу А. можно узнать по одному стихотворению.
Август
Работа в августе! Я так её люблю.
Когда в шестом часу пробудишься — и сразу
В один прыжок, к резиновому тазу,
Уподоблять его под шквалом кораблю.
Потом со скорлупы давая стечь топазу
Яичного желтка, его глотком ловлю
Гортани высохшей, причём благословлю
То, что за гранью чувств, — и что доступно глазу.
И тотчас за столом в заветную тетрадь
Как любо должное звучанье избирать
Из тысячи других, носящихся повсюду!
Приветствую тебя, мой Август, мой король,
Ты — лета моего вершина, цель и боль,
Твой верноподданный, как был я, так и буду.
Из последней строки явствует, что автор не женщина. Да, это стихи не А., а Владимира Пяста, опубликованные в 1924 году.
Вопли и стенания современных деятелей культуры перед лицом богатых навевают в памяти что-то из бессмертного А. Н. Островского. Например:
«А ты возьми, что значит образование-то: вчера ко мне благородная просить на бедность приходила; так она языком-то как на гуслях играла» («Не всё коту масленица»).
Обращал ли кто внимание: два основоположника революционно-демократической критики носили фамилии: БЕЛинский и ЧЕРнышевский?
Ленин вроде бы был абсолютно лишён нормального литературного вкуса, примерами чего за последние годы нас засыпали. Но вот старый, самый хрестоматийный советский пример из Горького, где писатель видит на столе Ленина том «Войны и мира»: «Захотелось прочитать сцену охоты…».
Если верить Горькому, а не верить в этом случае вроде бы нет оснований, то Ленин ведёт себя как заправский книгочей-гурман, а не утилитарист, пожиратель информации.
А может быть, причина нелитературная, а охотничья: см. книгу саратовского писателя Ю. Никитина «Царские охоты», где описывается почти патологическая страсть вождя к забаве с ружьишком.
Ницшеанство молодого Горького могло бы выглядеть и комично, если бы не знать его последующую судьбу воистину сверхчеловека.
«Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде» (М Горький. Мои университеты).
Самое интересное, что стоит разгадать в Горьком, — момент, когда он из подинтеллигента Пешкова превратился в Горького, когда и как осознал, как делать себя, свою удивительную судьбу. А судьба строилась им с неутомимостью муравья и беспримерной храбростью, я бы даже сказал, оголтелостью. Трудно даже определить черту, отделяющую этап подъёма до какого-то существующего уровня, от этапа, на котором он сам стал делать себя уровнем.
Вот брак с Волжиной, богатый дом на нижегородском откосе с его смесью мещанства в демонстрации достатка, профессии хозяина, трогательного рационализма нувориша в устройстве детских комнат и т. д. Как был он полон тогда своим крепнущим положением, семьёю, известностью. И как всего этого ему стало мало, — больше, больше! Это было, это не слава, во всяком случае, не слава Горького! Не поклонницы, а сраженья с сильнейшими. А потом с монархами, игра в партии, пафос всемирной свободы — и всемирной хитрости, и далее, и далее, и далее!
А как раздражён он даже уже в тех немногих опубликованных письмах к Волжиной, когда вкусил жизни гражданина мира, по отношению к её остановившемуся понятию о счастье, любви к нему!
И — в этом направлении — кем сделалась Волжина, ставшая Пешковой, с её международными связями, благотворительностью, масонством.
Да и все, кто втягивался в горьковскую орбиту, делались политиками, политиканами, хитрецами, обрастали таинственными связями, начинали жить и действовать энергично, ловко и всё на хозяина. М. Горький — это средоточие всей российской жизни первой половины XX века. Это куда больше, чем человек или писатель. Думаю, что аналогов не имелось.
Есенин отлично сознавал, уже в девятнадцать лет, что для набора «высот» в искусстве надо творить подлости, «продать душу свою чёрту — и всё за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека — у меня. <���…> Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек. Это ещё не эпитафия. 1. Таланта у меня нет, я только бегал за ним. 2. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, — подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь» (Из письма к М. П. Бальзамовой, осень 1914 года).
Сколько глупостей и пошлостей наговорено о стихийности и непосредственности есенинской музы. При огромной одарённости он имел и более редкий дар: сознавать необходимость строительства таланта в определённом направлении; «намеченным мною талантом!» — аж мурашки бегут по коже: вот он, первый шаг к «Чёрному человеку», выбор пути и беспощадность, прежде всего к самому себе.
Два русских поэта в 1915–1916 годах служили санитарами в военно-санитарных поездах: Есенин и Вертинский. А ещё К. Паустовский.
А почему «Собачье сердце»? То есть не повесть почему, а сердце в названии? Псу пересадили яички и гипофиз Клима Чугункина, и в гадостном Шарикове действительно билось собачье сердце. Но акцент, а название — это всегда акцент, даже акцент, явно вступает в противоречие со смыслом повести, если сердце понимать не как «грудное черево, принимающее в себя кровь из всего тела», а, по Далю же, как «представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала». Ведь у пса было честное, преданное собачье сердце.
Попытка объяснения. Эффектное название могло возникнуть у Булгакова от стихотворения Есенина:
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвиё.
Не напечатанный при жизни поэта альбомный экспромт 1916 года был опубликован в 1926 году в сборнике «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество» и мог быть прочитан Булгаковым. А быть может, бытовала идиома, использованная ими?
В советских поваренных книгах, которые именовались книгами о вкусной и здоровой пище, были разделы национальной кухни, очерёдность их — строго по числу жителей — от Украины до Эстонии. Потому же в «Кулинарии» 1955 года есть кухня карело-финская: была тогда шестнадцатая союзная республика. Потому же при наличии рецептов таджикских и литовских в русской поваренной книге не было татарской, мордовской и, разумеется, еврейской кухни.
О происхождении Вс. Мейерхольда. Его лютеранство всегда остаётся за кадром. Конечно, есть документы, в частности, в прекрасном музее театра в Пензе, а вот живое свидетельство. В. Гиляровский, бывший в Пензе, остался в восторге от водки производства завода Мейерхольда-отца (лучше и «Смирновской», и «Поповской») и его описал так: «фигура такая, что прямо норманнского викинга пиши».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: