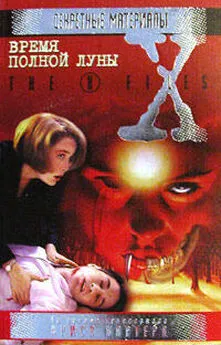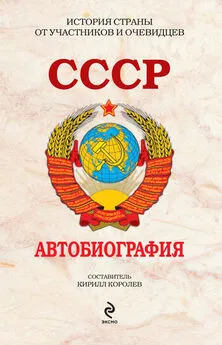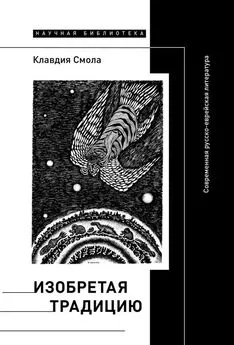Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]
- Название:«Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-358-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья] краткое содержание
На примере ряда произведений так называемой славянской фэнтези доказывается, что в массовой литературе фольклористическая достоверность не имеет принципиального значения. Фактически происходит изобретение новой псевдоисторической традиции, которая постепенно закрепляется в массовом сознании.
Ключевые слова: массовая литература, фольклор, славянская фэнтези, традиция, современная российская беллетристика, фантастика, фэнтези, фольклористика, Пропп, Афанасьев, патриотизм, история России.
«Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пантеон мира Волкодава отчетливо индоевропейский — во всяком случае, в том виде, в каком этот пантеон описан в работах Б. А. Рыбакова, В. В. Иванова и В. Н. Топорова: Великая Мать (иногда мать-Земля, при этом у веннов общество организовано по принципу матриархата), отец-Небо, Повелитель Грозы (громовник) и его противник Змей. Так, образ Великой Матери очевидно воспроизводит гипотезу Б. А. Рыбакова [7] «У земледельческих племен Великая Мать мыслилась, с одной стороны, космогонически как Прародительница Мира, мать богов и всего сущего, а с другой — как Мать-Земля, Мать-сыра-земля и в силу этого — покровительница урожая» [Рыбаков 1981, с. 401].
. Безусловно, М. В. Семенова дополняет образ Великой Матери в интерпретации Б. А. Рыбакова — в частности, добавляется феминистическая характеристика («Богиня закона и правды»), но в целом автор «Волкодава» следует указанной трактовке этого образа. В мире Волкодава, помимо начатков религии, существует и тотемизм — во всяком случае, у веннов: веннские кланы носят имена прародителей-тотемов, а сам Волкодав ощущает непосредственное родство с прародителем и верит, что после смерти будет держать ответ перед ним в загробном мире: «Хорошим или плохим я был сыном, это я узнаю, когда умру и предстану перед Прародителем Псов».
Отметим, что частые отсылки к славянскому тотемизму, характерные для славянской фэнтези, вероятно, объясняются сложившейся еще в советские годы идеологемой массовой культуры; это идеологема «поиска национальных корней», но в контексте глубины культуры — стремление «проследить» историю предков «до самых истоков» заставляло приверженцев этой идеологемы искать и находить в сохранившихся документальных источниках, будь то летописи, былины или сказки, свидетельства древнейших стадий развития «народного мировоззрения», в частности, поклонения тотемам [8] «Увлеченность» массовой культуры тотемизмом восходит к научной теории, популярной в XX столетии; см., например, монографию С. А. Токарева [Токарев 1964]. Сегодня принято говорить об «обрядах и верованиях, связанных с животными»; см., например, работу А. В. Гуры [Гура 1997].
. Можно вспомнить, к примеру, дискуссию 1970-х годов о слове «медведь» и культе медведя у славян [Наровчатов 1970, с. 25–31, 79–80]. Вдобавок отечественная массовая культура частично восприняла научные идеи — точнее, «выбрала» среди них те, которые могли быть истолкованы как доказательство верности данной идеологемы: например, в упоминавшейся работе «Язычество древних славян» Б. А. Рыбаков подробно останавливается на интерпретации образа медведя в славянском фольклоре и видит в нем отголоски тотемизма [Рыбаков 1981, с. 60–67]. Показательно, что современные неоязычники в своих информационных материалах регулярно цитируют Б. А. Рыбакова и ссылаются на «Язычество древних славян» относительно тотемизма — и на всевозможные паранаучные «исследования», опирающиеся, опять-таки, на работу Б. А. Рыбакова [9] См., например, следующие материалы: Тотемизм. Стадии язычества древних славян // Сайт «Мифология славян»: http://www.slavic-myth.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=193:2013-04-20-084451&catid=24:2010-10-30-08-43-13&Itemid=100040; Тотемизм у древнихславян // Сайт «Кольцо Славии»: http://slavya.ru/rings/viewtopic.php?t=3448;Тотемизм // Сайт «Славянская культура»: http://slavyanskaya-kultura.ru/forum/thread323.html.
. В общем и целом данная идеологема прочно утвердилась в массовой культуре.
Что касается М. Г. Успенского, он в своем романе, буквально прочитывая и перетолковывая фразеологизмы, вольно комбинируя фольклорные мотивы и национальные культурные традиции, отдает должное исторической поэтике и теории «бродячих сюжетов», концепциям А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского и В. Я. Проппа; последний даже оказывается одним из персонажей романа: «Кумир был вырезан грубовато, но умело. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена, такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться. Много чего знали про Белобога и Чернобога, про Громовика и Мокрую Мокриду… а вот насчет Проппа никто ничего определенного сказать не мог, у него даже жрецов своих не было. Знали только, что он установил все законы, по которым идут дела в мире. Законов тоже никто не помнил, хотя исполнялись они неукоснительно» (явная отсылка к «Морфологии сказки». — К. К .).
«Сказочная» трилогия Успенского, которую открывает роман «Там, где нас нет», посвящена приключениям богатыря Жихаря, по воле князя города Столенград отправляющегося в дальние и полные опасностей походы. По композиции все три романа — типичные квесты, основанные на схеме «пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что». Формально главным героем трилогии выступает богатырь Жихарь, олицетворение былинного русского витязя. Сразу оговоримся, что к настоящим былинным персонажам этот богатырь имеет весьма опосредованное отношение; скорее его образ очевидно соответствует стереотипному представлению о былинном витязе в позднесоветской и российской масс-культуре, воспитанной кинематографом, — косая сажень в плечах, невеликий ум в сочетании с недюжинной силой, пристрастие к пирам и застольям, искренняя готовность сражаться и погибать «за Русь» и при этом демонстративное нежелание считаться с властью в лице князя и приближенных последнего, если те не оказывают богатырю подобающего уважения.
Как читатель и вправе ожидать от текста, стилизованного под фольклор, да еще высмеивающего отечественную псевдогероическую фэнтези, действующие лица романа — не самостоятельные личности, пусть каждый из них и носит собственное имя, а, скорее, типажи. При этом, повторимся, автор широко использует не фольклорные, а литературные и кинематографические источники. О Жихаре говорилось выше; его спутник Яр-Тур (аллюзия на короля Артура и одновременно на эпитет «Буй Тур» из «Слова о полку Игореве») — рыцарь без страха и упрека, куртуазный и справедливый, в любой ситуации принимающий решения, исходя из рыцарского кодекса чести. Другой спутник, монах Лю, — стереотипный китаец (в представлении, почерпнутом из западного кинематографа и приключенческих, в том числе «шпионских» романов): хитроумный, даже коварный, изъясняется весьма велеречиво, в бою дерется голыми руками и ногами и часто цитирует Конфуция. Эта троица словно списана (разумеется, не буквально) со знаменитой тройки русских богатырей — Ильи Муромца (Яр-Тур), Добрыни Никитича (Жихарь) и Алеши Поповича (Лю), причем снова приходится признать, что эти образы имеют не столько фольклорное, сколько масс-культурное происхождение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)