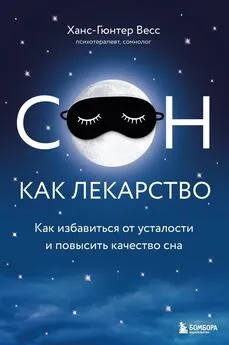Ханс Гюнтер - По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова
- Название:По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-86793-932-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханс Гюнтер - По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова краткое содержание
В книге Ханса Гюнтера исследуется творчество выдающегося русского писателя Андрея Платонова (1899–1951). На материале всего корпуса сочинений Платонова рассмотрена трансформация его мировоззрения, особое внимание уделено месту Платонова в мировой традиции утопического мышления и жанра утопии и антиутопии. Прослежены связи и переклички творчества прозаика с его предшественниками — от средневековых мистиков до Ф. Достоевского, Н. Фёдорова и других русских философов. Вместе с тем творчество писателя анализируется в контексте современной ему культуры. Книга обобщает итоги многочисленных предшествующих работ Х. Гюнтера о творчестве и мировоззрении А. Платонова.
По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многими авторами идеи Федорова зачастую заимствовались вне изначальной мотивации. Оторванные от контекста «общего дела», они превращались из служебных элементов философии памяти в стимулы научно-фантастического воображения. Федоровскими идеями увлекались сторонники русского прометеизма и биокосмизма [84] О воздействии федоровских идей на умы русских мыслителей и художников см.: Hagemeister М. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung. München, 1989.
, иммортализма [85] См.: Masing-Delic I. Abolishing Death. Stanford University Press, 1992.
и интерпланетаризма. Некоторые мотивы Федорова оказались близкими к художественному авангарду, хотя многие художники были знакомы с идеями Федорова лишь понаслышке. Вряд ли можно предполагать, что кто-либо из них прочитал два толстых тома «Философии общего дела» от корки до корки.
Но их читал внимательно Андрей Платонов, занимающий среди читателей Федорова особое место. В соответствии с общей атмосферой эпохи революции, ранняя публицистика и фантастические рассказы писателя изобилуют утопическими мотивами. Иногда трудно сказать, восходят ли они прямо к Федорову или же просто носились в воздухе времени. Напомним лишь о таких статьях воронежского периода, как «Свет и социализм», «Электрические воздушные линии» или «О культуре запряженного света». Как нам известно из «Рассказа о многих интересных вещах», кроме электричества и «светотехники» молодого писателя интригует и «антропотехника», т. е. создание нового целомудренного человека. Описание искусства будущего в терминах вселенской скульптуры и планетной архитектуры, а также мысль о том, что искусство станет лишним, поскольку «материя и сознание будут одно» [86] Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 220.
, напоминают конечную стадию эстетически завершенной и материально реализованной памяти у Федорова. Платонов обращает внимание прежде всего на такие мотивы из «Философии общего дела», которые соответствуют его пролеткультовским воззрениям тех лет.
Главное, однако, в том, что, в отличие от многих других авторов, использовавших федоровские идеи, лишь Платонов на протяжении всего своего творчества широко раскрывает более глубокие пласты федоровской философии памяти. Очень показательны в этом смысле такие произведения, как «Чевенгур» и «Котлован». В «Чевенгуре» местом встречи и диалога осиротевшего Саши Дванова с мертвым отцом является опустошенное кладбище, где Саша роет себе землянку, чтобы быть рядом с отцом и чувствовать его теплоту. В городе Чевенгур отец является сыну во сне и требует от него прервать скуку вечно повторяющейся истории: «Делай что-нибудь в Чевенгуре. Зачем мы будем мертвыми лежать» [87] Платонов А. Собрание. Чевенгур. Котлован. С. 240.
. Когда становится ясно, что круговорот истории все-таки продолжается, Саша уходит к отцу в озеро Мутево «в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем не уничтоженным, теплящимся следом существования отца» [88] Там же. С. 408.
.
Близость к Федорову отражена не только в глубокой привязанности Саши к отцу, но и в центральной для «Чевенгура» теме безотцовщины, которая бросает свет на обратную сторону проблематики — на отсутствие отцовского начала. Кроме Саши Дванова и Копенкина, так называемые «прочие» и «безродные товарищи» большевики являются «бродягами, не помнящими родства» в федоровском смысле. В «Философии общего дела» последняя стадия истории характеризуется именно как «конец сиротства» (2, 202), а братство будущего описывается как «весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскресение без смерти» (2, 202). В Чевенгур же приходят осень, вечер и смерть — следовательно, это еще не конец всеобщему сиротству.
Саша Дванов из «Чевенгура» и его собрат по духу Вощев из «Котлована» — «собиратели памяти» [89] Толстая Е. Мирпослеконца. М., 2002. С. 334.
— стараются сохранить прах предков и частицы прошлого. Если у Саши Дванова это проявляется как живая связь с отцом, то в «Котловане» акцент перемещается на восстановление забытой жизни прошлых поколений, на возмещение за человеческие страдания правдой конца истории. Эта проблематика затрагивается уже в «Чевенгуре», где Дванов поднимает разные мертвые вещи и возвращает их на прежние места, «чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме» [90] Платонов А. Собрание. Чевенгур. Котлован. С. 396.
.
В «Котловане» тема «собирания памяти» выступает на передний план. Вощев прячет отсохший лист в свой мешок, где он собрал «всякие предметы несчастья и безвестности», обосновывая свой поступок словами: «Ты не имел смысла житья, <���…> лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить» [91] Там же. С. 416.
. Хранению и памяти здесь приписывается спасительная сила, направленная на приведение в равновесие нарушенного порядка космоса. Пустой мешок, куда Вощев складывает все «вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины, и которые скончались ранее победного конца» [92] Платонов А. Собрание. Чевенгур. Котлован. С. 514.
, символизирует эту собирательную деятельность воскрешающей памяти. Не менее символично и то, что собранные для будущего отмщения ветхие вещи, «каждая из которых есть вечная память о забытом человеке» [93] Там же. С. 533.
, передаются Насте, олицетворению будущего, в качестве игрушек. В результате получается мифический образ девочки — персонификации будущего, играющей осколками раздробленного мира. Но у Платонова космологический миф инверсируется. Смерть Насти говорит о том, что собирание частиц прошлого не приводит к его восстановлению и искуплению.
В своем художественном изображении деятельности по собиранию памяти Платонов подхватывает представления, заложенные в проекте «общего дела», но его мотивации совпадают с замыслом Федорова только частично. В основе федоровской мысли лежит операция деметафоризации метафоры воскрешения. Подобную метафору мы находим, например, в предисловии к «Истории государства российского» Н. Карамзина. «История, — пишет автор, — отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слова в уста, из тления вновь созидая царства <���…> расширяет пределы нашего собственного бытия» [94] Карамзин Н. История государства российского. СПб., 1892. Т. 1. С. XVIII.
. В «Истории» встречается и метафора сосуществования поколений, которую мы находим у Федорова. Карамзин пишет, что благодаря истории «мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим» [95] Там же.
. У Федорова метафора, характеризующая работу историка, принимает прямой, нефигуральный смысл и превращается в «проект».
Интервал:
Закладка:



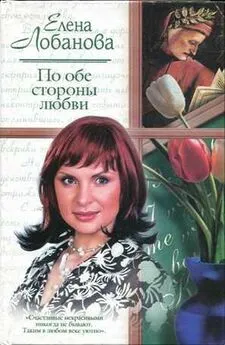
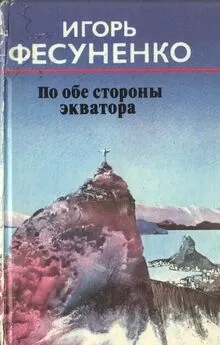

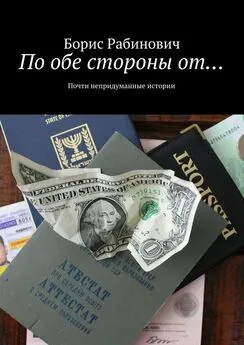

![Ханс-Гюнтер Веес - Я не умею спать [Как самостоятельно выявить и устранить расстройства сна за 21 день] [litres]](/books/1064405/hans.webp)