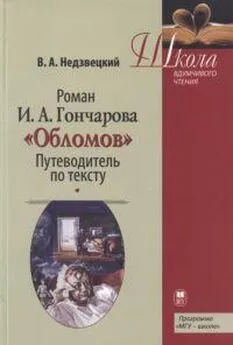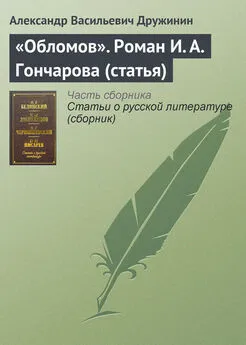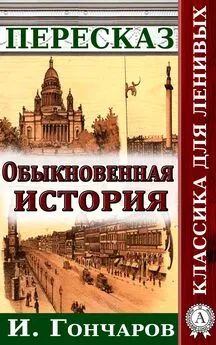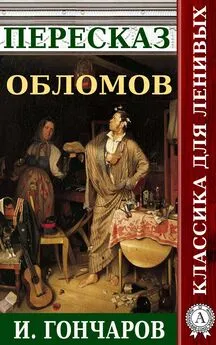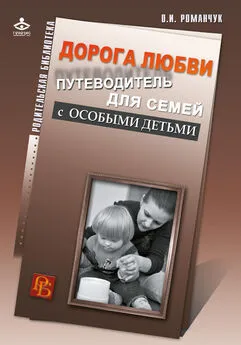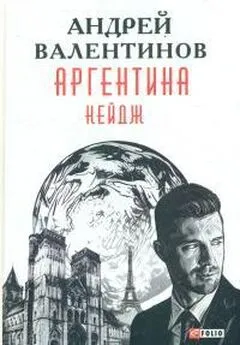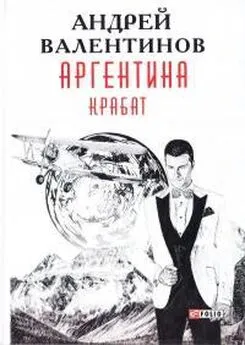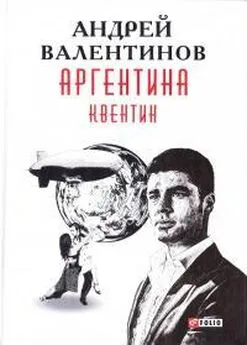Валентин Недзвецкий - Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту
- Название:Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Московского университета
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-211-05439-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Недзвецкий - Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту краткое содержание
Как изменился первоначальный замысел центрального гончаровского романа? Каков его подлинный конфликт, что лежит в основе сюжета и почему «Обломов» состоит из четырех частей? Что придало заглавному герою произведения значение общенациональное и всечеловеческое, а «обломовщину» уравняло с понятием «гамлетизма», «платонизма», «донкихотства», «донжуанства» и т. п.? Как систематизированы все мужские и женские персонажи романа и чем отличаются друг от друга олицетворенные ими «образы жизни», а также представления о любви, браке и семейном доме? О чем тоскует в «крымской» главе романа Ольга Ильинская?
Это только часть вопросов, обстоятельные ответы на которые содержит настоящая книга. Написанная известным историком и популяризатором русской классической литературы, лауреатом Литературной премии им. И. А. Гончарова, она представляет собой увлекательный путеводитель по художественному тексту знаменитого гончаровского шедевра во всех содержательных уровнях и гранях — от социально-бытовых (злободневных) и фольклорных до мифопоэтических и символических.
Для учителей школ, гимназий и лицеев, старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей-филологов и всех почитателей русской литературной классики.
Summary
V. A. Nedzvetsky. I. A. Goncharov’s Novel ‘Oblomov’: A Guide to the Text: a manual. Moscow: Moscow University Press, 2010. — (The School for Thoughtful Reading Series).
In the book by Professor Emeritus of Moscow State University, a laureate of I. A. Goncharov Literary Prize the famous novel ‘Oblomov’ is considered as a unity of all the meaningful facets (from the socially relevant to the mythological and symbolic ones) of its plot, conflict, artistic space and time. For the first time all the characters of this work’s ‘ways of living’ are given detailed descriptions, as well as their ideals of love, family and home.
Written according to the methods of 'thoughtful reading’ the book reads like a stimulating guide to one of the outstanding creations of Russian and world literature.
For teachers of schools, lyceums and gymnasia, high school pupils, students and professors of faculties of philology and all the lovers of Russian classical literature.
Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приведенные и подобные им объяснения Ольгиной тоски отражают лишь общественные устремления критиков периода первой русской революции, но не текст гончаровского романа, так как ни о каких «социальных движениях», старых или новых, как и об участии в общественных «поворотах», крутых или постепенных, Ольга в рассказе о своей тоске вовсе не поминает уже потому, что не имеет их в виду. Оба критика практически ни на шаг не продвинулись в суждении о данном фрагменте произведения от основополагающего для них мнения Добролюбова, который, безосновательно придав штольцевскому выражению «мятежные вопросы» смысл радикально-политической борьбы, еще менее основательно утверждал: «он (Штольц. — В.Н.) не хочет „идти на борьбу с мятежными вопросами“, он решается „смиренно склонить Глову“… А она (Ольга. — В.Н.) готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии» [167] Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. С. 68.
.
Не меньшим своеволием по отношению к тексту романа отличается разъяснение указанной «тоски» Н. К. Пиксановым, вообще характерное для гончарововедов советского периода. «В Штольце, — считал Пиксанов, — ее (Ольгу. — В.Н.) не удовлетворяет рассудочность, эгоцентризм, сухой расчет, отсутствие мягкости, душевности, какие она наблюдала у Обломова» [168] Пиксанов Н. К. «Обломов» Гончарова // Ученые записки Московского университета. Вып. 127. 1948. С. 152.
. Откуда же это видно? «Как я счастлив!» — говорит в «крымской» главе романа Штольц. «Я счастлива!» — дважды, итожа этими словами свое состояние, вторит там ему и его супруга (с. 353, 351, 353).
«На Западе, — фиксирует Е. А. Краснощекова, — не без влияния фрейдизма обращалось внимание на сугубо интимные аспекты <���Ольгиного> кризиса: „причина переживаемого Ольгой приступа депрессии — глубокая эротическая неудовлетворенность“, — читаем в книге А. и С. Лингстедов „Иван Гончаров“» [169] Краснощекова Е. Гончаров. Мир творчества. С. 331.
. Произвольность этого утверждения, фактически уравнивающего одухотворенную и целомудренную героиню «Обломова» с сексуально озабоченной Ульяной Козловой из романа «Обрыв», едва ли нуждается в особом опровержении. Достаточно сказать, что даже чувственное влечение Ильи Ильича Обломова к Агафье Пшеницыной в своем эротическом проявлении изображено Гончаровым всего лишь однажды (в финальной сцене первой главы четвертой части, где Обломов целует Пшеницыну в шею) и настолько по отношению к обоим участникам сцены деликатно, что по крайней мере юный читатель его физиологической подоплеки не замечает.
В России последних лет сделана попытка интерпретировать тоску Ольги Ильинской в духе религиозного литературоведения. Так, возражая ее политизированному истолкованию Добролюбовым и его последователями, В. И. Мельник пишет: «На самом деле как недовольство Ольги, так и ответы, и поведение Штольца указывают на иное. Туманно и поэтически, но Штольц именно в христианском духе объясняет Ольге ее неожиданную грусть. Штольц акцентирует именно запредельное, лежащее за гранью земного, говорит о совершенно естественных порывах человеческой души к Богу… Ольга нашла идеал земной, но тоскует по небесном» [170] Мельник В. И. «Обломов» как православный роман // И. А. Гончаров. Ульяновск, 1998. С. 155.
. Никаких серьезных доказательств в пользу этого вывода уважаемый исследователь, однако, не предоставил. Зачем бы, спрашивается, Штольцу, человеку православного исповедования, намекать христианке Ольге о ее порывах к Богу, а не прямо и ясно сказать ей об этом, если дело было в таких, угодных и русской православной церкви и большинству русских читателей того времени порывах? Между тем Штольц, устами которого в данном случае говорит едва ли не сам романист, ссылаясь на байроновского Манфреда, гётевского Фауста, а ранее на «Прометеев огонь», самого Творца поминает лишь в идиоматическом словосочетании «Дай бог» («Дай бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни… то хуже». — С. 358). И отчего стремление к Богу, если дело было действительно в нем, Штольц именует « мятежными вопросами человечества»? Что тут мятежного для любого человека и в особенности для людей верующих, коими являются Ольга и Штольц? Очевидно, объяснение почтенного исследователя — лишь дань умонастроениям части нынешних российских ученых и читателей. Ибо, будь оно верным, Ольга весьма легко избавилась бы от своей «тоски», удовлетворив свои «порывы к Богу» и не перешагивая за земную грань, а просто уйдя, как, скажем, тургеневская Лиза Калитина («Дворянское гнездо») или лесковская мать Агния («Некуда»), в монастырь или окружив себя, как толстовская княжна Марья Болконская («Война и мир»), «божьими людьми».
Не убеждает нас объяснение Ольгиной грусти-тоски, предложенное известным американским гончарововедом Вс. Сечкаревым, трактующим это состояние героини как «экзистенциональную скуку, которая охватывает человека в тот момент, когда он достиг абсолютного удовлетворения, как пустоту, которую чувствует современный интеллектуал, кому доступны все материальные блага, но который не способен найти ответ на коренные вопросы и мучим очевидной бессмысленностью жизни» [171] Setchkarev Vs. His Life and his Works. Wurzburg, 1974. P. 148–149.
. Скуку человека, достигшего «абсолютного удовлетворения», точнее было бы назвать не экзистенциональной, а пресыщением, действительно способным породить не только ощущение жизненной бессмыслицы, но и нежелание жить. Случаи, когда люди, обеспеченные всем в жизни, кончали самоубийство, не так уж редки. Но разве Ольга, пожелавшая в своей счастливой жизни неких «небывалых явлений, заглядывающая далеко вперед», свидетельствует этим о своем жизненном пресыщении? И разве она, которой «будто мало» было достигнутого счастья, считает себя абсолютно удовлетворенной?
Тот же Вс. Сечкарев, говоря о четвертой части «Обломова», совершенно справедливо заметил: это «самая восхитительная и самая метафизическая часть романа» [172] Там же. P. 145.
. Метафизический (в значении онтологический, философский ) уровень текста содержит, впрочем, не одна четвертая часть «Обломова», а весь роман, как и вся романная «трилогия» Гончарова. В той или иной мере метафизичен каждый из персонажей «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва», потому что всегда ориентирован на архетип, литературный (Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, Фауста, Тартюфа, Чацкого, Подколесина, Татьяны и Ольги Лариных, Филемона и Бавкиды и др.) или историко-культурный (Александра Македонского, Платона, Диогена Синопского, Бальтазара, Иисуса Навина, Иисуса Христа и т. д.); метафизичны локусы и ситуации «трилогии», довлеющие не бытовым и природно-эмпирическим очертаниям, а мифологемам таких гончаровских реалий, как усадьба (дом), река, озеро (вода), переправа и мост, сад и парк, цветы («желтые цветы»-кувшинки, сирень, ландыши, резеда, померанцевый букет и др.), кофейная мельница Пшеницыной и чашка , разбитая Захаром на другой день после расставания Обломова с Ольгой; метафизичны (ибо мифологичны ) у Гончарова стихии космические ( Солнце, Луна, свет, огонь , и, напротив, тьма, мрак, хаос ) и сакральные (ад, чистилище и рай, предстающие в образных аналогах суеты и непробудного сна, пробуждения и восхождения на гору , наконец, жизни как постоянного движения-совершенствования ). Метафизичны коллизии гончаровских романов, восходящие к «коренным, общечеловеческим» оппозициям старины и новизны, идеализма и практицизма, молодости и зрелости (отцов и детей), жизни-покоя и жизни-движения, морали (веры) и аморализма (неверия), и т. д.
Интервал:
Закладка: