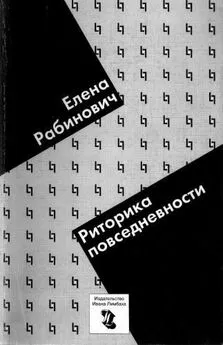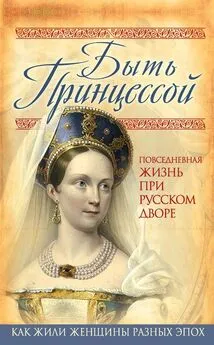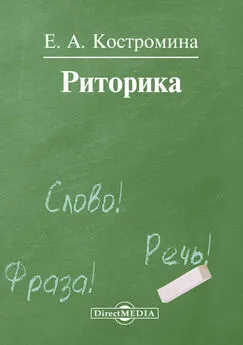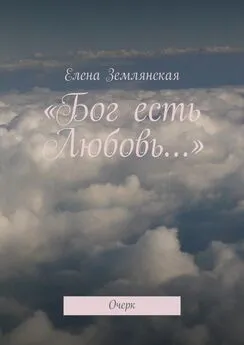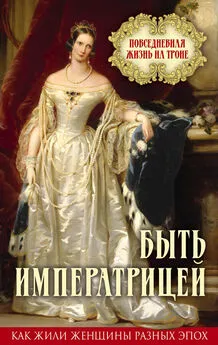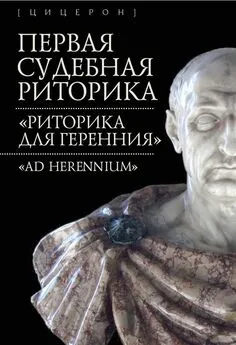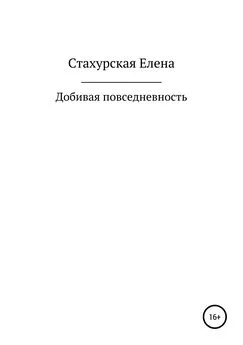Елена Рабинович - Риторика повседневности. Филологические очерки
- Название:Риторика повседневности. Филологические очерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89059-030-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Рабинович - Риторика повседневности. Филологические очерки краткое содержание
Книга известного ученого-классика и переводчика Елены Георгиевны Рабинович — блестяще написанные, увлекательные исследовательские новеллы.
Первый раздел составляют статьи, посвященные стилистике устной речи, в частности, принципам порождения современных жаргонов (на материале, собранном автором). Исследуется также «советизация» языка (на примерах преподавания английского в школах и вузах), высказана аргументированная догадка о происхождении выражения: «Кто? — Пушкин!».
Второй раздел посвящен усвоению античных традиций: читал ли Пушкин Горация, Достоевский — Вергилия; что знала Ахматова об Антиное, введенном ею в «Поэму без героя», и что такое «катарсис» у Аристотеля.
Риторика повседневности. Филологические очерки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В общем, хотя возможности словопроизводства любого жаргона сводятся к относительно небольшому числу способов порождения поэтической лексики в широком (Аристотелевом) смысле этого слова, фактически эти возможности так же неисчерпаемы, как и возможности всякого поэтического языка. Значит, как каждый конкретный поэтический язык характеризуется предпочтением одних приемов и от того неизбежным пренебрежением другими, то есть стилем, так свой стиль или, по крайней мере, своя стилистическая тенденция есть и у каждого жаргона, и, пожалуй, две самые частые тенденции — именно к «чуждости» и к «загадочности».
Своеобразным примером «чуждости» является офенский язык, изобилующий глоссами (так клюво от греческого καλός сохранилось до наших дней в форме клёво ), происхождение которых не всегда можно выявить из-за слишком значительных звуковых искажений. Гораздо проще также ориентированный преимущественно на глоссу жаргон советского фарцла (мелких валютных спекулянтов), частично сохраненный его экономическими и стилистическими преемниками — современными мелкими торговцами. Фарцовщики использовали преимущественно английские слова, хотя, конечно, в русском грамматическом оформлении ( гирла, фэйс, но: снял гирлу, дал по фэйсу, ср. олдовые вайтовые трузера с зиперами, вранглеры, без кайфа нет лайфа, шузы, шузня, тишотка — и так без конца). Описательная лексика в этом жаргоне обслуживала преимущественно денежные расчеты: например 17рэ подразумевало 170 рублей (видимо, литота здесь первоначально возникла ради герметизации) — возможно, из этого же источника явился сравнительно редкий в жаргонах перифраз зеленый рубль (тогда — трехрублевая купюра, теперь — доллар; ср. морда лица в молодежном слэнге 1980-х годов). Таковы же современные апартаме’нт (хорошая квартира), прайс-лист (прейскурант), мустарда (горчица). Забавно, что все еще живо мажор , а особенно мажорить, хотя из нелегального мелкого спекулянта мажор превратился в относительно легального, но по-прежнему мелкого торговца, часто челнока («мажорит помаленьку — то куртки турецкие, то парфюм»). В связи с престижем «чуждости» уместно вспомнить одну фразу из трактата Дионисия Галикарнасского «О сочетании слов» (I в. до н. э.), когда, цитируя в качестве стилистического образца Геродота, Дионисий предупреждает: «Дабы не заподозрили, будто приятность рассказа происходит от ионийского говора, я заменил его своеобычные речения на аттические» (III, 17: здесь нужно помнить, что во времена Дионисия ионийский диалект был экзотикой, а аттический — расхожей нормой).
Можно полагать, что эти две основные тенденции жаргона — тенденция к «чуждости» и тенденция к «загадочности» — во всяком случае отчасти, обусловлены социальными факторами: если интенсивные контакты с носителями чужого языка или языков (как, например, у офеней или у советских фарцовщиков) располагают скорее к «чуждости», то пребывание в недрах собственного языкового сообщества (как у описанных Далем воров или у современных наркоманов) предрасполагает скорее к «загадочности». Но обусловленность эта — не слишком строгая, так что помогает лишь самой общей предварительной классификации.
Добавление.
О звуках и о щеголях
Так как своей грамматики у жаргонов, как сказано, нет, основное внимание собиратели естественно уделяли и уделяют тем из них, где больше специфической лексики, а если ее мало и/или если группа ограничивается трансформацией обиходного лексикона по единому правилу (скажем, инверсией слов или добавлением к ним неких звуковых комплексов), то есть если но какой-либо причине составление словаря нецелесообразно, жаргон почти или вовсе лишается исследовательского внимания. Между тем наличие таких жаргонов порой указывает на важные языковые закономерности; ограничусь для иллюстрации анализом нескольких русских примеров из собрания Д. С. Лихачева ( Лихачев 1938, 338–341).
Единообразные в словообразовательном отношении жаргоны можно подразделить на три подтипа: во-первых, агглютинативные (к слову добавляется некий звуковой комплекс), во-вторых, инверсивные (слово произносится задом наперед), и наконец, в-третьих, смешанные (звуки добавляются к инвертированному слову). Простая агглютинация достигается добавлением к слову слога (реже двух), скажем, ку- или ши- ( ку ночь, шу день); характерен в этом смысле вошедший в моду в Париже после открытия в 1823 году диорамы способ parler en «rama» («belle rama» — красотка, «chapeau rama » — шляпа), приводимый в пример чуть ли не во всех исследованиях жаргонов. Агглютинация такого типа, конечно, проста, но и не так уж употребительна: чаще всего это лишь набор модных словечек, быстро проникающих в городское просторечие (как употребительные в свое время стиходромы, лыжедромы и прочие -дромы (Земская 1992, 125–127)). Гораздо чаще в жаргонах характерный звуковой комплекс либо присоединяется к усеченному с начала или с конца слову ( ши вар вместо «товар», сит им вместо «ситец»), либо помещается между слогами (зна хти ть — знать).
Тем более не проста инверсия, часто метатетическая, когда первый слог меняется местом с последним (солома — масола). К метатезе, однако, нередко добавляется агглютинация, как, например, в говоре «по-шицам» ( шимойдоцы — домой) или «по-херам» ( шимойхердоцы ). Все эти способы используются, разумеется, не только русскими жаргонами.
Что же сразу буквально бросается в глаза даже при самом общем взгляде на этот тип жаргонного словопроизводства? Конечно же то, что минимальным составляющим элементом слова оказывается не звук, а слог: слоги добавляются, усекаются, заменяются, переставляются, с ними производятся чуть ли не все возможные операции, но только со слогами. Если в каких-то (редких) случаях создается впечатление, будто трансформации подвергся лишь один звук, это значит только то, что замещающий слог лишь одним звуком отличается от замещенного (скажем, если «товар» — шивар, то «шуба» может быть шиба , но это замена не «у» на «и», а шу- на ши-).
Таким образом, игра со звуковой формой слова выражается прежде всего в разнообразной игре слогами, характер последовательности которых (число, ударность/безударность, долгота) является определяющим и для стихотворной речи. Восприятие слова как дискретной последовательности не слогов, а отдельных звуков скорее всего обусловлено возникновением алфавитного письма (впрочем, и читать ведь учатся по слогам, потому что так проще) и требует специальных навыков: если, как видно по рассмотренному типу жаргонов, деление на слоги всегда и без всякой подготовки осуществляется правильно, деление на звуки осуществляется под психологическим воздействием не всегда однозначного соотношения звука и буквы, предполагая не просто грамотность, а устойчивую ориентацию именно на писаный текст.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: